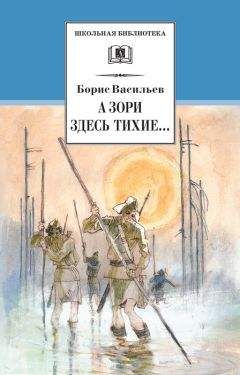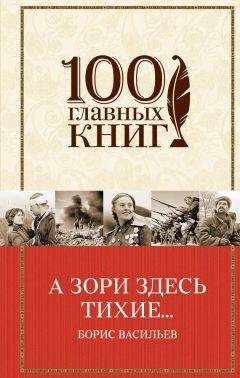Иван Вазов - Повести и рассказы
Павле Фертиг обладал особым искусством изображать движение поезда. Крикнув «Фертиг!»[49], он прижимал руки к телу и начинал бегать вприпрыжку, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, издавая звуки «пых-пых, пых-пых» и тем самым подражая пыхтенью паровоза. Затем бег и шум постепенно замедлялись, поезд прибывал на станцию… Ни один экипаж с курортниками не отбывал из Хисаря без того, чтобы в ту минуту, когда лошади должны были тронуться, рядом не появился Павле, не протянул на прощанье свою шапку и не подал свою любимую команду «Фертиг!»
За это его и прозвали Павле Фертиг.
Но несмотря на постоянные подачки, Павле ходил в лохмотьях, босой, полуголодный и ни на что не тратил денег. Драная одежонка на нем была с чужого плеча, голод он утолял скудными остатками с чужого стола; спал у околицы, возле «Верблюдов», в лачужке, сооруженной из кольев, камыша и банок из-под керосина, а порой — возле какой-нибудь лавки, завернувшись в свой потертый пиджак; тощий, грязный, всем довольный, подобно философу-цинику, не знающий желаний и забот. Его бережливость и попрошайничество вызывали удивление. Некоторые думали, что он зашивает деньги в одежду или зарывает их в землю, но это были одни предположения, для всех оставалось загадкой, куда они деваются. Нередко к нему приставали с расспросами:
— Эй, Фертиг, ты, наверное, собираешь деньги на свадьбу; где ты их прячешь?
— Господу богу, господу богу посылаю!.. Туда! Да здравствует швейцарское царство! Фертиг!
Название Швейцария составляло и исчерпывало весь запас его познаний по всемирной географии. Это слово в его голове связывалось с понятием обо всем, что есть в мире прекрасного, благородного и ученого.
— Она настоящая швейцарка! Ах, ах, что за красавица!.. — восклицал он восхищенно, когда мимо проходила какая-нибудь пригожая девушка или дама, вся пунцовая от комплимента Фертига.
Я имел честь снискать одобрение Павле и потому сходил за «швейцарца». Он награждал меня этим титулом каждый раз, когда его шапка проплывала мимо меня… Наблюдая за забавлявшими нас его шалостями и дурачествами, я нередко испытывал непонятную грусть. Этот почти двадцатилетний парень, юродивый, обиженный природой, предмет издевательств праздных бездельников, казался мне необъяснимой жестокой загадкой, укором веселости, вызванной величайшим несчастьем, какое только может постичь человеческую душу. А бедная, больная душа Павле, безвозвратно утратившая равновесие, лишенная здравой опоры разума, тонущая в беспросветном мраке, была вольна смеяться и возбуждать смех, который заглушал чувство сожаления… Счастлив он был или несчастлив… Таились ли в его душе какие-нибудь другие, более возвышенные человеческие чувства, кроме несознательной склонности к грубым шуткам и проявлений мелочной, животной корысти? Это было неизвестно. Вероятно, нет. Страдал ли он от сознания своего положения? Ведь это сознание существовало! Так или иначе, но он был всегда весел! Он был неизменно весел и обречен, смеша и потешая людей своими глупостями и паясничаньем, получать подаяния, которыми не пользовался…
Но выпал случай, который пролил обильный свет на эту загадочную душу и возвысил Павле в моих глазах.
Однажды я сидел в кофейне своей гостиницы и курил, глядя на выщербленные временем крепостные стены, от которых веяло духом минувших веков, седой стариной.
Откуда ни возьмись появился веселый, улыбающийся Павле. Он озирался по сторонам.
— Кто тебе нужен, Павле?
— Ты, но смотрю, нет ли здесь еще кого, — ответил он.
— Почему?
— Нет ли какой-нибудь дурьей башки…
— Нету, нету. Здесь только двое швейцарцев: ты да я, — сказал я ему, улыбаясь.
Павле начал рыться за пазухой своей рваной рубахи.
— Ты умеешь писать по-франкски, так ведь? — спросил он, вынимая голубой конверт без надписи.
— Что это за письмо?
— В швейцарское царство. Оп!
Он подпрыгнул и протянул мне конверт.
— Напиши здесь по-франкски имя моего брата.
— Хорошо. Куда же пойдет это письмо?
— В швейцарское царство. Свояк Матю написал внутри, а снаружи не умеет… дурья башка…
— А! В Швейцарию? Твой брат там? — сказал я, и мне сразу же стало ясно, почему бедный ум Павле ставил Швейцарию так высоко. — А в какой город?
— Пиши: Фрибур!
Я исполнил его просьбу и написал по-французски адрес, не переставая удивляться, что Павле помнит и правильно произносит это название.
— Ай да швейцарец, браво! — похвалил он меня.
— Что там делает твой брат?
— Ума набирается, учится.
— На кого учится?
— На дохтура.
— Очень хорошо.
— Нынче кончит учиться и приедет сюда лечить людей. Кто больной, того лечить будет…
И Павле, перекувырнувшись два раза, схватил письмо и собрался уходить.
— Постой, куда ты спешишь?
Он указал на ресторан напротив. Возле него под тентом сидела на стульях группа мужчин и женщин.
— Пойду туда, поведу поезд в Пловдив. Фертиг!
На его бледном веснушчатом лице сияла счастливая улыбка, в глазах светилось радостное нетерпение.
— Что ты написал брату? Пожелал ему здоровья?
— Пожелал здоровья, да только одного здоровья мало…
— А кто содержит твоего брата?
— А?
— У твоего брата есть деньги?
— Деньги? Какие еще деньги!
— Он получает стипендию?
— Что?
— Государство дает ему деньги?
— Господь бог.
— Как это, господь бог?
— Не бог, а дурья башка!..
Я посмотрел на него с недоумением.
— Павле, почему не отвечаешь по-человечески, почему строишь из себя дурака? — рассердился я.
— Я же сказал тебе! Фертиг, фертиг, фертиг!.. Пып-пых, пых-пых, — запыхтел он и побежал к сидевшим напротив людям.
Вечером я встретил бакалейщика Матю, который доводился Павле родней. Мне захотелось узнать, правильно ли я понял туманные намеки Павле. Матю долго мялся, потом сказал:
— Павле сердится, просит молчать, не срамить его брата, но вашей милости я скажу. Дело в том, что вот уже два года он содержит брата на подаяния, как видите… У брата сперва водились кое-какие деньжата, да скоро вышли, он хотел бросить учение… Но Павле, узнав про это, сказал: «Нельзя. Пусть доучится там!» Монетки не истратит, все туда посылает. От зари до зари не знает передыху, чтобы сделать брата человеком… Братская любовь, господин. Малоумный он, да лучше многих здравомыслящих…
Слова Матю заглушил взрыв хохота, донесшегося из ближней кофейни, где Павле Фертиг ходил на руках, выставив кверху босые ноги…
Перевод Л. Христовой
ОТ ОРАЛА ДО «УРА»
Известный столичный врач М., прекрасный хирург и охотник, отличный рассказчик, поведал мне следующее:
«Однажды, охотясь на диких уток, я бродил в окрестностях Софии. Темнота застигла меня у села Горни-Богров; пришлось остановиться там на ночлег. Ночевал я в доме деда Мине, крестьянина зажиточного, умного и доброго. Вечером воротился с пахоты его сын Стоичко. Об этом Стоичко я и хочу вам рассказать. Он был парень расторопный, работящий, весельчак и крепыш. Один сын у отца, он сам управлялся в поле. Видели бы вы его черные глаза, в которых светился природный ум, его пышущее здоровьем и силой лицо! Стоичко повел речь о хозяйственных делах, о нивах и волах, о видах на урожай… Ничто другое на свете его не интересовало. Был он грамотный. Старый Мине не мог нарадоваться, что вырастил такого доброго сына, которому вверит хозяйство на старости лет. Мне как-то сразу полюбился этот парень, я всем сердцем почувствовал радость, царившую в этой счастливой, работящей крестьянской семье. Когда наутро, с восходом солнца я вышел из села, мне опять попался на глаза Стоичко. Он с видимой легкостью пахал отцовскую ниву. Встав на полоз рала, вел глубокую, ровную борозду, и земля весело похрустывала, казалось, приговаривая: «Паши меня, парень, я воздам тебе сторицей!» Стоичко узнал меня, и, не отрываясь от работы, махнул рукой в знак привета. Я долго еще оборачивался и с наслаждением созерцал силуэты волов и самого Стоичко, видя в них живой символ труда и божьего благословления.
2Спустя три года рассыльный принес мне служебное письмо. Парень этот мне как-то сразу приглянулся: не то, чтобы он выглядел бравым в своей форме с золотыми пуговицами, — просто его вид пробудил во мне какие-то светлые воспоминания, память о чем-то хорошем, приятном, некогда мною увиденном и пережитом. Лицо рассыльного показалось мне знакомым. Он тоже смотрел на меня с улыбкой, явно стесняясь вступить в разговор.
— Послушай, парень, я вроде бы тебя знаю?
— Знаете, господин доктор, нам доводилось встречаться, — ответил он с той же застенчивой улыбкой.
— Где?
— В селе Горни-Богров. Вы у нас ночевали.