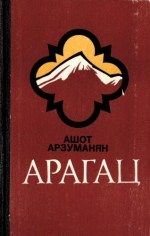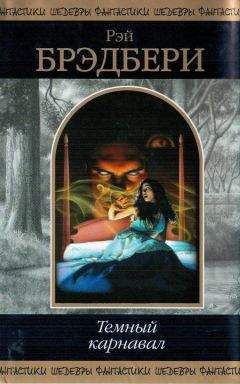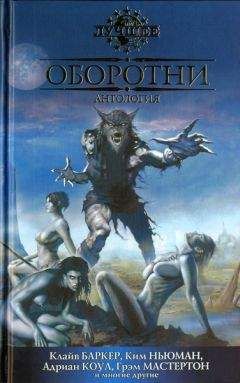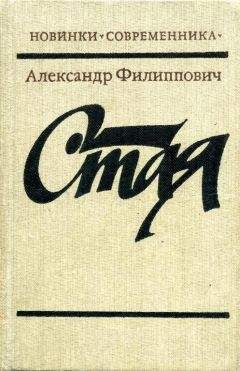Ихил Шрайбман - Далее...
Признаюсь, я всего этого как следует не знал, а если знал, то недостаточно вдумывался в Левин характер. Я за время нашего знакомства столько людей изобразил на бумаге, но чтобы очередь дошла до Левы, должно было пройти два десятка лет — надо было прийти не на веселый день рождения, а в горькую годину…
Но зачем забегать вперед?
Когда мы моложе, годы нам кажутся более длинными, но все равно пролетают они быстро. Вот только что Миечка была маленьким ребенком, малышкой: «Миечке три года», «Миечке четыре года», и вот она уже школьница, носит коричневую ученическую форму с белым фартуком и белым стоячим воротничком, туго обхватывающим шею. Наш сынишка ходит в музыкальную школу, и дочка Левы и Хаюси ходит в музыкальную школу. Наш мальчик учится играть на скрипке, Миечка — на фортепьяно.
Левин и Хаюсин дом оживлен, весел. На заводе Лева получает каждый месяц премии. К единственной большой комнате пристроили еще одну комнату. Кухоньку увеличили, провели к тому же удобства. Появилось место, чтобы поставить две кровати, одну у другой, а в первой комнате (конечно, она уже зовется «детской») пианино для Миечки. Каждый день Хаюся водит ребенка за ручку к учителю музыки, во второй ручке ребенок держит большую черную нотную папку с портретом Чайковского, выложенным никелированной проволокой на переплете. Каждый вечер из дома доносятся звуки пианино. Хаюся кричит с кухни: «Нет, нет, фа диез, Миечка», а Лева шутит, усмехаясь: «Послушай, Хаюся, в школу-то ходит она, а пианисткой станешь ты!»
На днях рождения, год за годом, Миечка теперь действительно в центре внимания. Ее тоненькие удлиненные пальцы проворно бегают по клавишам, играют для гостей сложнейшие сонаты и этюды. Гости диву даются, у счастливых родителей влажно блестят глаза. Люди восторгаются не так самими сонатами и этюдами, как тем, что их извлекает та самая Миечка, которая только что, кажется, была от горшка два вершка. И вот пожалуйста, сидит у инструмента на вращающейся табуретке, что ввинчивается год от году все ниже и ниже, рослая девочка с густейшей копной волос и с такими очаровательными ямочками на щеках — только позавидовать можно тому парню, который, когда придет время, влюбится в эти ямочки.
Танцуют и сейчас, не сглазить бы, но стол теперь не надо ни складывать, ни отодвигать. Гости топчутся по кругу, а внутри круга Лева и Хаюся. И Миечка не капризничает — пошла в отца — не отказывается еще разок сесть к инструменту и сыграть тот танец и этот танец — все, что ни попросят гости. Пальцы не отрываются от клавиатуры, а светящееся лицо с ямочками повернуто к папе и маме, к поющим и пляшущим гостям.
Полон радости и жизни был в те годы дом Левы и Хаюси.
И вдруг — это случилось двадцать семь лет назад — Хаюся чем-то тяжко захворала. Говорили: осложнение после гриппа, или грипп прошел сам собой, а эта напасть обрушилась сама собой. Причины врачи не могли установить. Лева места себе не находил. Привозил одного профессора, привозил другого профессора. Пробовали все средства: уколы, массажи, компрессы из нагретых простыней, ванны, электрические процедуры — ничего не помогало, болезнь не желала отступать, напротив: все глубже и глубже укоренялась.
Суставы, пальцы на руках начали искривляться, щиколотки расти, опухать. Невыносимые боли при каждом движении, ни рукой, ни ногой не пошевельнуть. Месяцами Хаюся лежала распластанная. Когда ей становилось чуть лучше, ее одевали и поднимали с постели, но она сидела на стуле скрючившись, с искаженным болью лицом, покачиваясь, как в тех случаях, когда про несчастье известно, что оно ниспослано не на день и не на год — навсегда.
За хозяйку в доме стал Лева. Бегал по воскресеньям на рынок, приносил больной самое свежее, самое отборное; вечера простаивал на кухне, готовил, крутил стиральную машину; когда требовалось, мыл полы, вытряхивал на улице дорожки из Миечкиной комнаты.
Миечка, со своей стороны, ухаживала за мамой: приносила ей что понадобится, уносила за ней, каждое утро освежала ее лицо влажным полотенцем, подавала ей лекарства. Раз в неделю причесывала ее.
Долгое время пианино стояло закрытым. Играть на нем в такой обстановке руки не поднимались, да и голова была не тем занята. Но Хаюся настаивала, что если хотят продлить ей жизнь и вернуть здоровье, она должна видеть собственными глазами, что Миечка не пропускает музыкальной школы — болезнь матери не должна отразиться на судьбе ребенка. Нетрудно себе представить, что звуки пианино теперь каждый день раздавались в доме. Кроме того, Хаюся, вот так — получеловек уже, интересовалась всем, что делается у Левы на заводе. Над чем муж работает сейчас. Как эта часть работы получается. Как ее оценили. И Лева в свободную минуту присаживался подле нее на кровати и отвечал ей на все вопросы во всех подробностях, как сидят у постели заболевшего ребенка и развлекают его сказками. То, что происходит у Миечки в школе, само собой, обсуждалось не менее подробно: сегодня — сколько она получила по сольфеджио, завтра — по истории музыки, по гармонии; что этот преподаватель сказал и что тот преподаватель сказал; как ее готовят к академическому концерту, к экзаменам. Прикованная к постели, Хаюся каждый день давала Миечке советы, советы-приказания: какое платьице и какую кофточку дочка должна надеть и как волосы причесать. С постели же — Леве на кухню: что он должен сегодня сварить и сколько сварить.
Дни рождения Миечки, конечно, больше не отмечались. Иногда мы с женой, пусть земля ей будет пухом, к Леве и Хаюсе заскакивали. Хаюсю заставали или лежащей в постели, от раза к разу все больше изменившейся в лице, или сидящей в комнате на стуле, в свежем халате, в нарядном цветастом платке на голове, непрерывно раскачивающейся из стороны в сторону.
Болезнь, по словам врачей, приостановилась: это значит, она не развивается, но и не отступает. Так вот и живет Хаюся. Живет и мучается. И понемножку к этому привыкли. И домашние, и друзья, и знакомые, и она сама тоже. Годы тем временем бежали. Мия поступила в консерваторию, окончила ее, стала сама преподавателем фортепьяно в музыкальной школе. Про Леву говорили, что такого, как он, нечасто встретишь. Все эти годы, столько лет, кроме завода, жил только одной заботой, одной мыслью: Хаюся. Раньше, до ее болезни, он всегда на время отпуска брал на заводе путевку в санаторий. Теперь, когда он нуждался в санатории как в самой жизни, он что ни год от путевки отказывается, уже столько времени не знает отдыха! Ни на один день. Наоборот: только когда он в отпуске, Хаюся может по-настоящему ощутить, что такое преданность, что такое любовь. И благодаря этому жизнь в ней еще теплится. Это держит ее, не дает уйти.
Мия вышла замуж. Однако не захотела покинуть свой дом. Как можно оставить мать на одного отца? Он ведь уже немолодой человек. В семье стало мужчиной больше. Но вместе с мужчиной, с зятем, вскоре, как бывает обычно, прибавился и ребенок, внучок. В доме и на сердце и взаправду веселее. Но легче, как можно себе представить, Левино существование не стало. Капельку труднее.
Все это я знал уже больше по слухам. В те годы и м о е й не стало после тяжелой операции, и время у меня наступило не приведи господь! От Левы и Хаюси я поневоле отдалился. По рассказам было ясно, что у них совсем невесело. Хаюся чувствовала себя намного хуже. Лева буквально валился с ног. Болезнь ее действительно как будто приостановилась, но сама-то больная не делалась здоровее, с каждым годом старела и слабела. Мучается, бедняжка, говорили знакомые. Мучается сама и мучает близких.
Два года назад ее к тому же разбил инсульт. Теперь Хаюся лежала совсем неподвижно, лишилась речи, рот скривился на сторону, руки и ноги отнялись напрочь. Лева водил в дом докторов одного за другим. Почти каждую ночь вызывал «скорую помощь». Мия и ее муж за два последние года стали неузнаваемы. Так все тянулось до совсем недавнего времени — две недели прошло, не больше.
Утром зазвонил телефон, и Миечкина двоюродная сестра Алла, тоже преподавательница музыки, известила меня:
— Вчера ночью умерла тетя Хаюся. Похороны в четыре часа. — В трубке раздался глубокий вздох, который, мне показалось, означал: «наконец-то…».
На похороны собралось много народу. Тут были и заводские, и Миечкины друзья, учителя и некоторые ее ученики из музыкальной школы, знакомые знакомых, друзья, соседи. Несли венки с надписями на черных лентах: «Дорогой Хаюсе», несли и несли цветы. В комнату протискивались с трудом. Левин зять, взбудораженный, то и дело выскакивал на улицу, ждал своего отца из Баку, который телеграфировал, что летит на похороны, уже давно должен был появиться, а все нету… Люди кучками стояли на улице и, как водится, негромко разговаривали. Говорили больше о Леве, чем о Хаюсе. О нем — по обыкновению: какой человек! Самоотверженность его и любовь не поддаются описанию. Чего он только не делал: из кожи вон лез, в лепешку разбивался. Все те годы, что она болела. Двадцать семь лет! И сокрушенно вставляли об умершей: «Бедняжка… Смерть — избавительница!»