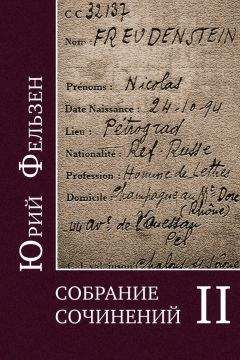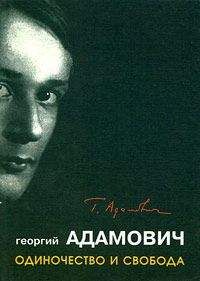Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I
Меня неизменно трогает, что Лермонтов никого и ничего не любил слепо, бездумно, идеализирующе-бескровно: нет, он именно любил, присмотревшись, внимательно разглядев, после критики и осуждения, вопреки осуждению, с той особенной, прощающей жалостью, с какой мы любим всё несовершенное и милое, в своем несовершенстве понятное и по-человечески нам близкое. Так Лермонтов любил и Россию – самозабвенно-поэтической, «но странною любовью», сказавшейся, выраженной не в подражательном негодующем его обращении «Опять, народные витии» (написанном в двадцать лет и после Пушкина) и не в «Двух великанах», «Бородине» или «Споре», сочиненных в условно-приподнятом, бравурном стиле того времени, неизбежном при описании битв и военных подвигов (одно из немногих исключений – его же «Валерик»), а в позднем, зрелом и необычайно искреннем стихотворении «Отчизна». Всё оно – бесстрашно-зоркое, ни своим ни чужим вымыслам не верящее, как бы недоумевающее перед такой, не в духе времени, не «империалистической», не хвастливой, действительно «странною любовью» («ее не победит рассудок мой»), но иные, теперь нам понятные глубины уже заключены в обычно-серьезном, добросовестном и вдохновенном лермонтовском перечислении – «ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой» (может быть, не пленительное, но ошеломляюще-точное сочетание слов) – и острая блоковская жалость, смутное предугадывание каких-то народных ритмов – в другом перечислении, Лермонтову отрадном и близком, где словно бы навсегда для поэтического русского восприятия неопровержимо слиты в одно «дрожащие огни печальных деревень», «чета белеющих берез» и «пляска с топаньем и свистом, под говор пьяных мужичков».
Я часто думаю о том, не является ли условностью, предрассудком, внушением чувствование своей страны и своего народа, и не должно ли творчество, опыт душевной высоты и предельной нашей независимости, нас сразу уводящей от всего внешне-постороннего и создаваемой осязательными, никем не внушенными и невыдуманными, собственными нашими ощущениями, не должно ли творчество этими ощущениями и нами ограничиваться, не принимая, отбрасывая навязанное нам извне – идеи, историю, государство (как будто они в плоской, практической, сниженно-душевной области, и должны заниматься ими безвдохновенные, делеческого склада, люди), – и какая-то есть правота в постоянном моем сомнении: ни в чем так легко не следуешь общим словам и мыслям, экзальтации, нередко даже самопожертвенной, как именно в любви к своему народу, государству и правительству, любви, душевно-необоснованной и столь же необоснованно переходящей в бесконечное негодование и ненависть. Путем разряжения, с необыкновенной легкостью, мы перенимаем патриотические или «освободительные» взгляды и готовы, вслед за другими, обожествить, очеловечить нашу родину, для большей убедительности – по сходству с человеческими отношениями – как-то ее «оженственнить» («Пускай заманит и обманет – не пропадешь, не сгинешь ты») и, восхищаясь и пылая заемными, иногда случайными пристрастиями, не помним, не можем помнить, что они только заемные и совсем не личные, что немногим дано по-своему видеть и как бы через свое перерождать условные понятия, «массовые» цели и надежды, что таких людей меньше даже, чем умеющих видеть и передавать себя, и что самое их чувствование толпы, народного «идеала», отвлеченной идеи, все-таки несколько вымышлено и условно, и мы незаметно становимся безответственными и нежизненными, как был частично-безответственным Пруст, едва ли не проницательнейший наш современник, когда высказал мысль об особом «эротическом» соотношении народов, о любви-ненависти Германии и Франции. Мне кажется, среди немногих людей, видевших и как бы душевно осязавших (со всеми оговорками) свою страну и свой народ, был, пожалуй, и Лермонтов, и он больше именно по-своему – трезвяще-уточняюще – видел, чем сомнительно-безответственно обобщал. Может быть, поэтому не слишком у него часты легковесные, ходкие эпиграммы (вроде – «немытая Россия, страна рабов, страна господ»), столь модные в то время, и обычно никого не обличающие, грустные и веские высказывания. Привожу – простите – новый «ворох цитат»: из «Княгини Лиговской» («русская покорность чужому мнению»), из «Вадима» – описание пугачевщины, народного бунта и злобы, в лермонтовские восемнадцать лет, задолго до Горького и Бунина («Народ, невежественный и не чувствующий себя, хочет увериться в истине своей минутной, поддельной власти, угрожая всему, что прежде он уважал или чего боялся, подобно ребенку, который говорит неблагопристойности, желая доказать этим, что он взрослый мужчина»), из «Бэлы» (взрослый уже и добросовестно-точный Лермонтов в русском человеке находит «присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения»). Не знаю, что в этих словах, – предвидение или же попытка объяснить прошлое, зато имеется несомненная, оправдывающая, прощающая, всякому творчеству нужная доброта, и она так поучительна – и о «народе», и в отношении отдельных людей – именно для нашего времени, когда русские недостаточно любят, чересчур яростно ненавидят и плачутся, будто не могут, словно бы разучились творить. Впрочем, я вам пишу, всё более запутываясь, и сам уже ни в чем не уверен – оттого, что нет у меня своего взгляда, своего чувствования России, и я поддаюсь, то «гипнозу империалистскому», то блоковско-поэтическому, а без собственной веры не понимаешь и веры чужой.
Но, конечно, Лермонтов гораздо более занят человеком, чем людьми – толпой, обществом, государством, – и лишь только он обращается к человеку, к одному лицу (всё равно, в стихах или прозе), тотчас исчезает риторика, еле ощущаемая опасность риторики, и такое его обращение всегда проникновенно и сердечно.
Не кажется ли вам, что Лермонтов первый нашел (во всяком случае, для нас, русских) то очарование встречи и разговора двоих сердечно-умных, терпимых, много переживших людей, ту особенную свободу, особенный тон достоинства, взаимного уважения и нежной взаимной бережности, который подхвачен, узаконен, распространен Толстым – хотя бы дружба князя Андрея и Пьера Безухова. У Лермонтова в этом смысле как-то убедительны все разговоры Печорина и доктора Вернера – выписываю один из них, быть может, наиболее наглядный: «Посмотрите, вот нас двое умных людей; мы знаем заранее, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим; мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга; одно слово для нас – целая история… печальное нам смешно, смешное грустно…» Это говорит Печорин, недоверчивый, презрительный к людям, к возможности бескорыстного дружеского их внимания – в той же «Княжне Мэри» он перечисляет «друзей», пользующихся его столом и кошельком, но Вернера среди них нет, как будто после таких разговоров, после такого, им общего, их связавшего тона заподазривать в чем-либо неблагородном нельзя. Такой же тон и в некоторых, особенно в поздних, взрослых стихотворениях Лермонтова – «Валерик», «Договор» и многих без заглавия, – я просто не хочу доказывать и еще выписывать, предвидя ваши и без того мною заслуженные насмешки, но почему-то уверен, что вы поняли, что вы услышали тон, меня и в личных и в чужих отношениях прельщающий, вернее, для меня недостижимо заманчивый: я не смею добиваться его с вами, а больше никого у меня нет. Мне представляется трогательным и важным, что этот сердечный, проникновенный тон был у Лермонтова только с избранными, и среди немногих случаев такой «избранности» меня особенно поразил один – длительная привязанность, взволнованное и волнующее доверие к сестре «Вареньки», к Марии Алексеевне Лопухиной (как бы знающей всё и жалеющей «не унижая»), прелестно-умные к ней письма, где имеются удивительные для Лермонтова, откровенные и добрые признания: «С вами же я говорю, как с своей совестью» – или – «Право, следовало бы в письмах ставить ноты над словами». Не доходит ли до вас какое-то касание души душой, какая-то жалоба на не до статочность слов, неожиданная у человека, столь, казалось бы, скрытного и гордого. Знаете, о чем я подумал и чему позавидовал, когда читал эти письма – что нет и у вас сестры: к ней, в моем воображении понятливой и отзывчивой, вам пленительно-близкой, на вас похожей, но не смущающей меня и надо мной не властвующей, я бы обращался с той безбоязненной искренностью, с какой обращаться к вам уже не смогу – у нас «пущено» навсегда по-другому, и строки вроде последних – короткое, даже и от вас вдали сразу же подавленное мое восстание.
Есть одно человеческое соотношение, в сущности обычное, но меня всё по-новому задевающее и мной воспринимаемое не без наивности – как мальчиком меня задевали постоянно те же, казавшиеся «вопиющими» несправедливости, – правда, теперешняя моя задетость иная, более взрослая, какая-то растянутая и размягченная, однако является она очередной моей, именно с детством еще связанной, негодующей и безысходной страстью: это нестерпимое для меня отношение – всякое непринятие, всякое непонимание человеком человека, столь частая отвергнутость чувства, отказ в таланте и уме. Я сознаю, как нелепо возмущаться одним из множества необъясненных противоречий, составляющих нашу жизнь и жестокую обстановку нашей жизни – и все-таки примириться мне трудно: люди несут другим (о, не только ради тщеславия и счастья) свой опыт, душевные силы и все внешнее, что им дорого и важно, и это со скукой отвергается – и не всегда по капризу и недомыслию – нередко людьми внимательными, отзывчивыми, с достаточным запасом «доброй воли», и каждый из нас непременно участвует в подобном круговом мучительстве непринятия и слепоты, и многие были и будут его жертвами. И вот что странно: когда я сам жертва, мне настолько бывает больно, я настолько собой и своим мучением поглощен, что не могу дойти до обобщающих выводов, и они заранее представляются недоказуемо-неясными и оспоримыми, но если жертвами становятся люди, мне достаточно близкие и понятные (однако менее близкие и понятные, чем я сам), тогда лишь наполовину поглощенный и мучающийся, не ослепляемый болью и необходимостью скорей, сейчас же, от нее избавиться, способный быть вдохновенно-трезвым (правда, при помощи также и собственных однородных воспоминаний), я нечаянно – и, конечно, предположительно – «общее» нахожу, этим общим как бы со стороны и оттого благоразумно возмущаюсь (благоразумно, в меру, ибо до меры, сверх меры – тупость и хаос) и ему неторопливо подыскиваю пускай ничего не меняющее, зато мне нужное и будто бы единственно-правильное определение. Без конца повторяя одно и то же – об отвергнутости, о непонимании Лермонтова, – я меньше всего думаю про его неудачу с «Варенькой»: через столетие доходит до нас какая-то вина самого Лермонтова или же его природы – обидчивой, требовательной, чересчур беспечной, – да и Варенька (об этом сужу несколько интуитивно и произвольно) оказывается доброй, милой, простой, нет, меня в лермонтовской судьбе мучительно волнует совсем другое – неизбежная слепота друзей, невнимательность, небережность всего русского общества, какое-то, казалось бы, привычное человеческое равнодушие, к которому я именно по-детски привыкнуть не могу. Правда, в небольшом дружественном кругу Лермонтов был обласкан и признан («наследник Пушкина»), но до чего безответственно – забавляясь, толкая на гибель, – до чего снисходительно его превозносили, как не услышали, не угадали чутьем столь нуждающегося в отклике и поддержке, героически-искреннего его тона. Ждали «чудных стихов», опасного после преследований и разжалований, обличающего, пылкого негодования, но того, о чем стихи, чего Лермонтов искал и не нашел, об этом не думал никто, и так самопожертвенно, как он умел любить и любил, так его ни друзья ни женщины не любили. Даже те, от кого он мог бы ожидать понимания, оказались слепыми: человек, похожий на Вернера, сказал после «Княжны Мэри» – «pauvre sire, pauvre talent», – a сам Пушкин, обычно более проницательный, не отозвался на «Хаджи-Абрека», хотя по-видимому его прочитал – правда, ему приписываются слова «далеко мальчик пойдет», но эти слова и апокрифичны, и, в сущности, так недостаточны. И то же преступное невмешательство, та же общая беспечность, проявленные перед смертью Пушкина и к ней, быть может, приведшие, повторились и с Лермонтовым – и два случайных кавалергарда, на протяжении немногих лет, бессмысленно и, вероятно, нехотя убили двух замечательнейших русских поэтов. Говорят, Лев Пушкин, сразу после дуэли попавший в Пятигорск, укоризненно заметил – «Я бы помирил», – правда, он пережил одинаковую и тоже предотвратимую гибель знаменитого своего брата.