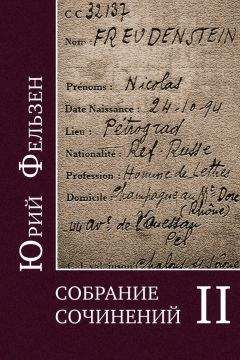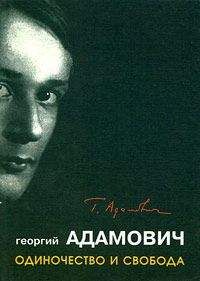Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I
Но было в вашем письме и нечто отрадное – вопреки его цели и смыслу, – какое-то напоминание, подтверждение крепкой у нас дружбы: из каждой строки вашего письма я, всё более пораженный, убеждался (словно в чем-то забытом), что у меня с вами как бы общая школа, общая «детская» этой дружбы – из долгих совместных разговоров, своих словечек, согласного осуждения многих других людей и взаимного, душевного и умственного, доверия (последнее – одна из причин чрезмерной моей самонадеянности, и, право, такие слова совсем не заглаживанье и не взятка). Я вспоминаю вашу манеру говорить, если всё ладится и нет угрозы ежеминутных тяжелых размолвок: у вас тогда лестное и для меня поучительное любопытство – вы так расспрашиваете о каждом, точно хотите установить какой-то перечень его отношений (к знакомым, друзьям, возлюбленным или книгам), что может иногда показаться лишь праздным сплетничеством, но действительно человека исчерпывает, и для меня захватывающая игра (и, конечно, вознаграждающее применение уединенной моей работы) – вам по возможности обстоятельно отвечать.
Вот я немного уменьшил свою задетость и нашел «исходную точку» для ровного с вами собеседования и опять упрямо возвращаюсь – с чувством художника, осмеянного на выставке и сквозь слезы отстаивающего свою правоту – к попытке додумать и передать безмернощедрую жизнь и душевный подвиг Лермонтова. Мне это особенно трудно: несмотря на язвительное ваше предположение, Лермонтов больше всего привлекает меня именно тем, чего у меня нет – избытком безбоязненности перед событиями и людьми, пониманием человеческого равнодушия ко всякой чужой неудаче, неизбежного одиночества в случае поражения и всё же готовностью к смертельной борьбе, к ответу за каждую нерасчетливость или неосторожность, к любой, самой жестокой, самой несправедливой расплате. Лермонтов не ищет никакой поддержки, когда один пытается отомстить правительству и обществу за Пушкина (при молчании близких друзей Пушкина – Вяземских, Жуковских и Карамзиных), не ропщет на исковерканные годы и только волнуется (с такой не гусарской, не молодеческой совестливостью), что подвел одного из своих приятелей. И совершенно так же Печорин, перед ссылкой в крепость за дуэль, без малейших иллюзий, без колебаний знает, что его, опасного неудачника, люди постараются забыть или предадут, что и достойнейший из них, мягкий, умный, беспредрассудочный доктор Вернер – не карьерист и тоже неудачник – мгновенно от него отвернется, и вот, как Лермонтов, не видя смысла и цели, не надеясь ни на чье сочувственное понимание, Печорин с кем-то ссорится, к чему-то стремится и – волнуясь и разрушая – чего-то хочет достигнуть. Всей памятью о собственном опыте, всеми догадками о людях, мне противоположных, я вынужден сам с собою признать, что так – по-лермонтовски – устроена жизнь и только так стоит и надо жить, что каждый оголен и от всего в мире оторван, но не должен прятаться и жаться в своей норе, где можно лишь молчаливо и беззащитно страдать: напротив, каждому из нас следует быть как бы на свету, как бы на людной освещенной площади, готовиться к выбору союзников и врагов, себя навязывать или приспособляться, вовремя отступать и наступать, не боясь ответственности (расплаты или чрезмерной, невыносимой награды) – тогда есть надежда выполнить какое-то, нас все-таки умиротворяющее человеческое назначение и добиться некоторого (пускай обреченно-относительного) успеха. Я знаю, что единственно-верный способ борьбы – и жизненно-деловой, и любовной, и даже интеллектуальной – не взывать к жалости, а стараться прельстить, «заинтересовать», найти «интересное» и прельщающее, но сам поступаю наперекор своему знанию, как человек, который легко краснеет, однако не пытается отучиться от своего недостатка, глядя опасному собеседнику прямо в глаза, а нелепо закрывает лицо руками или долго разыскивает ложку под столом. Я восхищенно завидую лермонтовской мужественности, язвительности, напору, но у меня вместо всего этого – трусливое, себя оберегающее, меланхолическое смирение. Один из признаков этого моего смирения – довольно странный, – что в самых взволнованно-безрассудных своих вымыслах я себе не представляю окончательной удачи, романа с женщиной совершенной (слишком полное счастье меня пугает) и для правдоподобия, для надежды должен вообразить женщину, несколько отцветающую, не совсем красивую и обольстительную: мне еле верится и в половинчатое счастье.
Я часто предполагаю и себе доказываю – по «Герою нашего времени», по тону и смыслу последних стихотворений Лермонтова, – что ему предстояло сделаться именно писателем-психологом и что немногое, им написанное – начало русского психологического романа, того, чем русское искусство прославилось и утвердилось (больше, раньше, прочнее музыки и балета), из-за чего действительно мы еще могли бы высокомерничать. Помимо естественных рассуждений о том, как мало величайшие романисты-психологи – Толстой и Пруст – успели создать в лермонтовские двадцать шесть лет, помимо стольких доказательств его проницательности и точности, самого устремления к душевной добросовестности и точности, помимо полуслучайного сходства (подобно Толстому и Прусту, Лермонтов особенно возмущался, если его обвиняли в портретности – Печорин есть «портрет, но не одного человека», – вместе с Толстым и Прустом Лермонтов писал «не об одном человеке», а, конечно, о человеке вообще), помимо всей этой несущественной, словно бы рассчитанной на спор и обычной в споре «диалектики», я вижу в Лермонтове и другое, куда более важное и для меня бесспорное: в нем есть та необманывающая внимательная к людям доброта, которая лучше узнается из немногих свидетельств о его жизни, из писем, дневников и воспоминаний, чем из прозаических и стихотворных его тетрадей – порою презрительных, насмешливых, иногда заносчиво-гордых. И в этом у Лермонтова неожиданное совпадение с Прустом и Толстым: доброта Толстого обычно прикрыта суровым беспристрастием тона, нередко пророческим учительством, необыкновенная, легендарная доброта Пруста еле угадывается в обстановке любовно-эгоистических, безжалостных, никакой метафизикой не возвышенных, не обманутых, не смягченных отношений у героев огромного его романа, где всё – поиски удовольствий, вернее, борьба за то, чтобы освободиться от навязчивой, невыносимой боли и горя. И у Лермонтова часто не добраться до этого «зерна доброты», до чудесной его самоотдачи людям – через всю иронию, презрительность и гордость. Я, быть может, и преувеличиваю второстепенное человеческое свойство, придаю ему совсем несоразмерное значение незаменимой творческой первоосновы, но в этом меня убеждают и собственные над собой и над людьми случайные опыты (ведь в каждой жизни есть какое-то свое творчество – пускай ничтожное, зато показывающее и объясняющее усилия настоящих творцов), и Блок, и Ахматова, и князь Андрей – что творчество, попытка из беспорядочно-наблюденного припомнить, создать, изобразить человека и в себе вызвать непрерывно-отчетливое, до слез взволнованное к нему внимание, что это начинается от доброты (всё равно, любовной или послелюбовной, но непременно раскрывающейся благодаря именно «любовной любви»), доброты, ясновидящей от наплыва и от избытка, признательной за ответную доброту и за найденные, неожиданные, словно бы подаренные нам достоинства, ласково прощающей всё причиненное нам зло – даже и, казалось бы, непрощаемое зло непонимания, умышленно-оскорбительного отказа нас понимать, – и что иной (в творческом смысле), придирчивой и односторонней, является ненависть, а равнодушие поверхностно до слепоты. И вот, то немногое, что до нас из Лермонтовской жизни доходит, есть постоянное непонимание благороднейших душевных его движений и постоянные у него попытки это непонимание как-то обобщенно осмыслить и простить. По-видимому, бабушка Арсеньева и отец, упрямо делившие и оспаривавшие его чувство, нередко сомневались в этом чувстве, чего-то не прощали, и, по-видимому, в самом Лермонтове, всегда готовом язвительно нападать и противоречить – от благородства, от какой-то стыдливости и гордости, – была причина их недоверия в бесконечных, как бы предопределенных недоразумений. Вероятно, такая же предопределенность разобщила его с Лопухиной. В основе стольких произведений Лермонтова – юношеских драм, «Маскарада», наконец «Демона» – всё та же выстраданная идея непринятой, отвергнутой, насильственно-подавленной доброты:
И он пришел, любить готовый,
С душой, открытой для добра.
Но женщине, которой предназначена эта «демонская», нечеловеческая, неисчерпаемая доброта, ей судьба не дает принять и оценить то, что лишь немногим доступно или по силам, и часто она сама, с бессознательной мудростью угадывая непосильно-высокое, страшное напряжение, внезапно испугавшись, отворачивается и уходит, и оскорбительной смены разочарований и надежд когда-нибудь не выдержит сердце поэта,