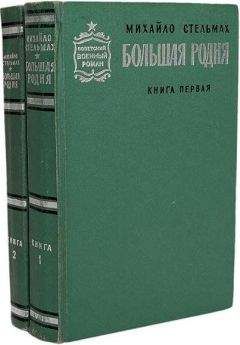Михаил Стельмах - Четыре брода
— Вы уже там, возле своих? — легонько коснулась его руки Ганнуся.
— Там, серденько, там, ясочко.
— И кто-то там ждет вас?
— Наверное, ждет, если война не скосила. Девушка приумолкла, взяла весло, что лежало около ограды, и они по росе пошли лугами к речке, что тихо убаюкивала берег, и челны на берегу, и вербы над берегом. Неподалеку всплеснула рыба, это напугало Данила. Теперь можно и рыбы, и волны испугаться. Пригнувшись, он спустил на воду вербовый челн — Ганнусино приданое, как шутил ее отец.
— Садитесь. Повезу вас по нашим звездам, — грустно сказала девушка.
— Может, я погребу?
— Еще перевернетесь на этой душегубке. — Ганнуся тихо махнула веслом, и челн вправду пошел по звездам, пугая и кроша их.
С кем же он когда-то плыл вот так ночью? Да это мать перевозила его, малого, через татарский брод. Тогда в челне лежали татарское зелье и аистов огонь. А теперь не аистов, а адский огонь пошел по всему миру, выйдет ли он из него, и выйдет ли из него эта пригожая девушка?
Не повезло ему в первые дни войны. А если повезет теперь, то до последнего будет биться с недолей, чтобы хоть немного поубавилось горя у людей. Погрузившись в мысли о своем селе, о своих лесах, он уже не видел, как на ресницах девушки задрожали две слезинки.
Челн мягко коснулся берега, тут, обнявшись, как в песне, печалились предосеньем три вербы. Данило соскочил на влажный песок, подал Ганнусе руку, и девушка легко спрыгнула на берег.
— Как ваша рана? Не дает о себе знать?
— Нет.
— И нисколечко не болит?
— Как же она может болеть, если ты лечила меня? Спасибо тебе, доченька, за все.
Ганнуся всхлипнула.
— Ты чего?
— Кто же меня теперь доченькой назовет? Вот скажете вы так, а я тату вижу. Он даже похож на вас, только вы чуть выше его.
Данило обнял девушку, она встала на цыпочки, неумело поцеловала его, потом вытерла, ресницы, и руки ее упали, словно неживые. Он взял их в свои и неожиданно заметил, что карман Ганнусиной жакетки оттопыривается.
— Что там у тебя?
— Ой…
— Говори, говори.
— Бельгийский браунинг второй номер, — сказала она, волнуясь, вынула пистолет, взвесила его на руке.
— Где ты взяла его?! — удивился и обрадовался Данило.
— Да… — не знает, что сказать, и собирает морщинки на невысоком лбу.
— Если не хочешь, то не говори.
— Один хлопец принес… подарок на именины.
— Хорошие тебе подарки приносят.
На это Ганнуся серьезно ответила:
— Какое время, такие и подарки.
— А того хлопца случайно не Юрком зовут?
— Юрком.
— Где же он его раздобыл?
— Говорил, что немного наворовал у гитлеровцев.
— Ганнуся, подари мне это оружие — ведь я иду домой безоружным, с одной душой.
Девушка грустно глянула на Данила.
— Если вам очень надо, возьмите. Я же знаю, что вы пойдете в партизаны.
— Почему ты так думаешь?
— По всему видно. А когда станете командиром, тогда заедете за мной. Я вашим партизанам обед буду варить. Заедете?
— Непременно.
Девушка вздохнула:
— Все равно обманете.
— Зачем ты, Ганнуся?
И уже не доверие во взгляде, а вековой женский укор обжигает его.
— Потому что мужчины всегда обманывают нас.
Данило удивленно посмотрел на девушку:
— Откуда ты знаешь?
— Мои тетки так говорили. И взрослые девушки это говорят… Так заедете?
— Непременно! Вот увидишь, доченька!
— Я буду ждать вас. Не забудьте…
И такая была у нее вера, что грех было бы хоть чем-то обидеть девушку.
На том берегу послышался всплеск весла, раз и второй. Данило насторожился:
— Кто бы это мог быть?
— Юрко! — уверенно ответила девушка, и в уголках ее губ пробилось превосходство.
— Откуда ты знаешь?
— А он тихо не умеет — так гребет, словно мешки бросает, не знает, куда силу девать. — Челн выплыл на середину речки, и теперь Ганнуся спросила: — Юрий, это ты?
— А как ты меня узнала? — радостно откликнулся ломающийся юношеский голос.
— Орлиный клекот даже из-под тучи слышно, — насмешливо ответила девушка.
— Не будь, Ганнуся, ведьмочкой. — Юрий снова гребнул, словно мешок бросил в воду, и вскоре его челн с разгона врезался в берег.
Теперь Ганнуся гордо выпрямилась и стала сама неприступность. Откуда она только взялась у нее? А юноша, шурша отавой, уже осторожно подходит к ним. Поздоровавшись, он деланно веселым голосом заговорил с Ганнусей:
— Вот не ожидал встретить тебя с кем-нибудь.
— Как ты догадался приехать сюда?
— Посмотрел, что нет твоего челна, да и встревожился.
— Ты даже встревожиться можешь? — насмешкой донимает хлопца Ганнуся.
— Вот и встревожился, хотя и не о ком было, — не остается в долгу Юрий. — Я догадывался, что у тебя кто-то есть, — однажды вечером видел, как шел с твоего двора врач.
— Какой ты догадливый у нас. И что из тебя будет, когда подрастешь?
Данило с удивлением прислушивался к их перепалке и все больше убеждался, что Юрий по уши влюблен в Ганнусю. Да и она, видно, клонится к нему душой. Но привередничает, как умеют привередничать девушки, когда чувствуют свое превосходство. Только где же и когда могло взяться такое у этой лозинки, что одной правдивостью смотрит на мир? Ох, эти девушки и молодицы, ох, это Евино сластие, как говорил о женщинах один дьяк-приблуда…
— Ганнусенька, так я пошел.
— А мы вас проводим с Юрком, ведь мы знаем тут все тропинки.
— Конечно, проводим, — голубем заворковал паренек и радостно посмотрел на Ганнусю, свою любовь и свою ведьмочку.
XVII
И вот долгожданный татарский брод с осколком луны посередине, и молчаливый приселок, что уткнулся в неровный берег, как младенец в материнскую грудь, и тревога птичьего грая в небе, и тихое всхлипывание склонившихся верб, и дремота вербовых челнов, привязанных к комлям.
Конь остановился, время остановилось, только в груди так стучит сердце, словно хочет разбудить уснувший приселок.
«Чего ты? Чего? Пора бы уж огрубеть, покрыться корой». Да не покрывается оно корой, и даже в такую годину его волнуют сон этого забытого приселка, полусон реки и дрема простых челнов, что с берега на берег перевозили его детство, а потом любовь. Где она и что с нею теперь?
Данило соскакивает с коня в заросли краснотала, прислушивается к ночи, к берегам, к хатам-белянкам: в одной из них, верно, отдыхает Мирослава. И снова под тучами печалится птичий грай и подает голос ему из приселка одинокая журавлиная труба. Это отзывается тоска подбитого журавля, который второй год живет у Ярослава Гримича. Август — пора перелета, самый тяжелый для него месяц. А для человека теперь стали тяжелыми все месяцы. Все!
Всплеснула рыба на быстрине, и ёкнуло в груди, а ведь он так спешил сюда: и к той вишне, под которой вечным сном почила его мать, и к тому жилью, где дозревают пшеничные волосы его Мирославы, и к тем людям, с которыми должен быть всегда вместе…
Сначала Данило добрался до кладбища — чувствовал за собой вину, что не поклонился могиле матери, уходя на фронт. Нашел то дерево, которое выросло у ее изголовья, и только коснулся его рукой, как на землю посыпались перезревшие вишни. И птица не склевала их, — наверное, и ее меньше стало в войну…
Из-за деревьев, раздвигая туман, вышел сгорбленный, облитый сединой кладбищенский сторож, который полвека встречал гробы и жил среди могил и крестов, в старой, похожей на гриб часовенке. Он не узнал Данила, потому что в безумной круговерти времени померк его разум. Приглядываясь побелевшими глазами к путнику, скорбно спросил:
— Ты ж, человече, не из тутошних?
— Из тутошних, дед.
— А я что-то не узнаю тебя. Стариков всех узнаю, а на молодых не хватает памяти.
— Почему же вы, дед, в селе, среди людей, не живете?
— Как же мне жить дома, если старуха вот тут под барвинком почивает, а всех сыновей и внуков забрала война? Вот и остались в хате одни слезы невесток. Может, нарвешь себе яблок или грушек? Уродило их в этом году, даже ветки ломятся. Слышишь?
И Данило правда услыхал, как недалеко застучала плодами отломившаяся ветка. А старик все стоял возле него.
— Ты ж из войны вырвался?
— Из войны.
— А о моих детях и внуках нет ни слуху, ни пол-слуху. Такого кровопролития, как теперь, и при татарщине не было.
На глаза навернулись старческие слезы, и он понес их с блестками луны в часовню, где все ночи сторожит постаревших святых, которые должны были оберегать и предостерегать людей. Скрипнули пересохшие двери часовни, и Данила насквозь пронзили не то тяжелые стоны, не то всхлипывания:
— Деточки мои, дети, где же вы теперь?
То не боги скорбели, а человек, который весь век прожил с молчаливыми богами…