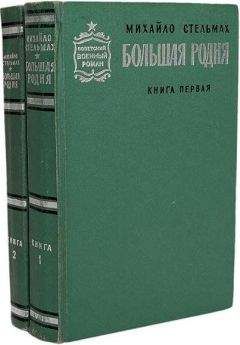Михаил Стельмах - Четыре брода
— Как это ненароком? — нахмурился Сагайдак.
— Душа не выдержала, — развел руками Роман. — Это уже после разведки на железной дороге.
— Я вам что говорил?!
— Не ввязываться…
— А вы что?
— Так мы же и не ввязывались, пока не собрали данных, — будто пристыженно промолвил Роман.
— Три дня будете молоть на жерновах, чтобы все видели, какие вы есть…
— А что будем молоть — жито или гречку? — деловито лукавит Роман.
— Какое это имеет значение?
— Большое. Возле гречки, зная, что она пойдет на блины, не переутомишься.
Сагайдак только руками развел и ресницами погасил усмешку.
— Значит, сожгли машину. А что дальше?
— Бежали, аж подковы дымились у коней.
Услыхав такой ответ, командир рассмеялся, а у Романа по всему лицу зашевелились хитринки:
— Так, может, мы свою норму смелем не па жерновах, а на ветряке? Ведь у него явный перевес над человеком.
— Какой это у него перевес? — удивился Чигирин.
— Самый обыкновенный: у ветряка четыре крыла, а у человека только два, и то не у каждого.
На этот ответ Сагайдак так рассмеялся, что даже слезы выступили на глазах, а близнецы хотя и. притихли, но уже знали, что гроза обошла их чубатые головы…
И снова предвечерний лес, и тени деревьев на рельсах, и партизаны возле железнодорожного полотна, мелькающие, словно тени. Теперь Василь и Роман притаились в засаде ближе к станции, а на полотне, возле стыков рельсов, орудуют старый Чигирин и Иван Бересклет. Вывернув болты из накладок, что соединяют рельсы, они сползают с насыпи, а на полотно с лапами поднимаются Петро Саламаха и Григорий Чигирин.
— «Эй, ухнем», — тихо говорит Саламаха и лапой приподнимает железо. У него костыли выскакивают, как грибы, и он изредка насмешливо глядит на Григория, который начинает пыхтеть. — Хлопче, может, поменяемся местами, а то у тебя, видно, дерево более твердое?
— Обойдется. Вот отдышусь и догоню хвастуна.
Вглядываясь в даль, волнуется Сагайдак, тревожится, а из памяти неизвестно почему навертываются только два слова: «Остановись, мгновение», «Остановись, мгновение». Это в том смысле, чтобы все остановилось, что может помешать им.
На станции раздался гудок паровоза. Неужели наш? Неужели наш?
Сагайдак, пригнувшись, взбирается на насыпь, показывает Саламахе и Чигирину, на сколько надо раздвинуть концы рельсов. Партизаны приподняли их лапами и отвели в стороны — вот и вся техника. Вот и вся. А в голове уже отдается стук колес еще невидимого поезда. А теперь — в леса!
Бежит по рельсам дрожь, нервно, наперегонки скачут по ним лучики, и уже, чихая паром, разбрызгивая искры, надвигается темная громада. И вдруг с разгона оседает паровоз, бешено вгрызается в насыпь, и черт знает как переворачивается, а на него с неистовым треском, скрежетом и визгом наскакивают, разламываясь и громоздясь, вагоны. Из их разверзшихся внутренностей клубами вырываются белые облака.
— Газы! Газы! — испуганно кричит Иван Бересклет и топает своими сапожищами в глубину леса.
За ним бросаются несколько партизан, подхватывается с земли и Василь, да Роман властно придерживает его рукой.
— Не беги, брат. Если умирать, то не трусом.
В лесу, видно, кто-то остановил Бересклета, так как тот снова завел свое:
— Это же газы! Наверное, баллоны полопались.
— Тю на тебя, дурень! — спокойно отозвался старый Чигирин. — Это не газы, а мука. Завтра из нее коржей испечем.
— Опять коржей! — с огорчением пробормотал молчаливый Саламаха.
И хохот покрыл его слова.
XVI
— Куда же вы такой, больной и перебинтованный? Побудьте у нас еще денек, — жалостливо затрепетали девичьи ресницы. — Слышите?
— Спасибо, Ганнуся, Побреду уж как-нибудь, а если не смогу, так поковыляю, словно бедняга рак. — Данило пальцами показал, как он будет ковылять, и Ганнуся улыбнулась, но сразу и загрустила. — Чего ты, доченька? Чего, маленькая? Чего, ласковая?
— Грустно мне будет без вас, — потупилась девушка.
— Почему же, Ганнуся?
— Батько пошел на войну, вот и вы пойдете, а я снова останусь одна-одинешенька на свете.
— Почему же одна? А челн на речке? — хочет как-то развлечь ее Данило.
— Вот разве что челн да весло. Но теперь и на нем далеко не уедешь — полиция следит. Сейчас хотите идти?
— Сейчас, а то ноги уже сами просятся в дорогу.
— Не так ноги, как душа, — понимающе покачала головой девушка, затем подошла к сундуку, подняла тяжелую дубовую крышку, достала из-под каких-то одежонок бобриковое пальто. — Тогда возьмите отцовское, ведь по ночам уже на пару приходят туман и холод.
— Чем я смогу отблагодарить тебя?
— Если живы будете, то хоть напишите. Только непременно оставайтесь живым!
— Постараюсь, Ганнуся. — Данило невольно потянулся к девушке, погладил, как гладят детей, головку, толстую косу. Невыразимые жалость и тревога за судьбу этого доверия и красоты, что молча стояли возле него, уже не надеясь на свое счастье, охватили его душу. Закончилась бы война, пришел бы с войны ее отец — вот все ее счастье. Да будет ли такое?
Ганнуся неожиданно вздрогнула, отпрянула, настороженно повернулась к окну.
— Что там?
— Кажется, кто-то скрипнул воротами. Кого-то несет нелегкая — к крыльцу идет. Прячьтесь в каморку.
Данило метнулся в каморку, а в это время по-стариковски закряхтели, заскрипели высохшие половицы крыльца и кто-то тихо постучал в дверь.
— Кто там?! — испуганно откликнулась Ганнуся.
Снаружи послышался приглушенный смех:
— А это я. Не узнаешь?
— Юрий.
— Он самый!
— Сумасшедший! Чего ты по ночам шатаешься и пугаешь людей?
«Сумасшедший» снова засмеялся:
— Открой, Ганнуся, тогда скажу на ухо.
— Эге, так и открою кому-то!
— А я думал, тебе со мной веселее будет.
— Что-то не ко времени ты веселым стал.
— Ганнуся, разве тебе еще не пора гулять? Или ты, может, примака приняла?
— Известно, приняла — не ждать же тебя.
Но Юрко и от этого не унывает:
— Дай хоть погляжу на этого приблудного: похож ли он на человека?
— Завтра приходи. И завтра я расскажу твоим родителям, как ты людям спать не даешь.
— Не будь, Ганнуся, привередницей и ведьмочкой вместе: ведь тебе, когда подрастешь, еще и замуж надо выйти. Вот лучше открой.
— Когда выйдешь за ворота, тогда открою.
— А кто же меня своим зельем приворожил?
— Иди, хлопче, не морочь голову.
Юрий, что-то недовольно бормоча, потоптался на крыльце я пошел от дверей. Девушка погодя открыла их, посмотрела на луга, выглянула на улицу, а потом выпустила из каморки Данила.
— Это кто, Ганнуся, ухаживает за тобой?
Девушка отмахнулась рукой:
— Есть такой ветрогон на нашей улице — один утопленник.
— Что-что?!
— Утопленник, говорю. Плавать не умеет, хоть и возле речки живет, а купаться лезет на глубокое. Вот и утонул было в прошлом году. Намучилась я, руки надорвала, пока вытащила его на берег. Чуть было и меня не утопил. Вот и нашла теперь мороку на свою голову, — будто сетует на кого-то, а по губам пробегает тень загадочной улыбки.
— А может, это любовь?
Ганнуся покраснела:
— Да он трубит о ней, научился у кого-то. А разве ж о любви трубят?! Так идете?
— Иду.
Девушка снова юркнула в каморку и вскоре вынесла оттуда торбу, завязанную шерстяной веревочкой, связанные концы которой сунула в руки Данила.
— Если уж так решили, то возьмите этот сидор, в дороге пригодится.
— Я, Ганнуся, становлюсь твоим вечным должником.
— И не говорите такого… умного.
Они молча выходят на подворье, за которым спускаются к речке некошеные луга. Тут на предосенних травах лежали звезды, под травами, ожидая рассвета, дремал туман. Теперь, когда угасала жизнь корней, туман каждую ночь отлеживался на них, а потом, прихрамывая, поднимал над землей холодок скошенном мяты и влажность затопленных лилий… Лилией называли до замужества и его сестру Оксану. Как она там? На темном полотне вечера память начала воскрешать женский образ, большие ласковые глаза, подведенные предосенней грустью. И дети Оксаны, и Мирослава, и Стах, и дядько Лаврин со всей семьей, и дед Гримич, что так хорошо пел о Морозенке, сразу вспомнились, подступили к нему. Живы ли? Живы ли?
Он стоял перед пойменными лугами, сверкающими росой и звездами, над которыми серпик луны рассеивал нити серебра, а в мыслях уже был возле татарского брода, там, где кони топтали, ярую мяту и туман, а теперь нынешние ордынцы топчут жизнь. Но не вытоптать ее извергам с их бесноватым фюрером. И у Данила невольно сжались кулаки.
— Вы уже там, возле своих? — легонько коснулась его руки Ганнуся.
— Там, серденько, там, ясочко.