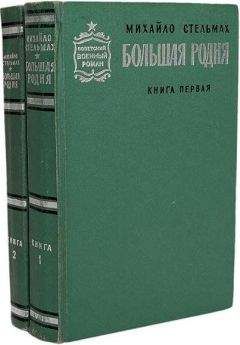Михаил Стельмах - Четыре брода
Вздыхают сени, вздыхает хата, вздыхает за камышами невидимый брод, а тут, на передней части печи, обрызганной луной, ожидают рассвета круглоокие красные петухи. Что будет, то будет, а он отсюда не уйдет: раз есть загадка, то, может, дождется и разгадки. Как ошалелый, послонявшись из угла в угол, Данило ставит возле кровати винтовку, на всякий случай немного открывает окна, потом снимает сапоги и, не раздеваясь, ложится на застланную постель: так, если и заснет, то меньше будет спать. Он еще прислушивается, что делается во дворе, приглядываясь к луне, что повисла над бродом, с грустью в полусне думает о Мирославе. А в это время неожиданно оживают нарисованные петухи: встрепенулись, захлопали крыльями, стряхнули лунную росу и запели. Рассвет у нас всегда встречают петухи, а утро — голуби. Ожило и само жилище, качнулось в одну сторону, качнулось в другую, как пароход, поплыло по огородам, по лугам, по речке, и в него начали набиваться бойцы его взвода, да все с винтовками, с автоматами, с пулеметами, с гранатами «РГД» и «Ф-1», противотанковыми минами, с мешками взрывчатки. Ага, им же надо заминировать мост. Вот он металлическими радугами ферм соединил берега и тихо уткнулся в красные гроздья калины. И вдруг откуда-то сбоку донеслись голоса Ярины и Мирославы.
Ярина. Смотри, какие у тебя хорошие чеботки!
Мирослава. В самом деле хорошие. Спасибо твоему дедусю.
Ярина. Вот и прощай, сестра. Не знаю, скоро ли увидимся.
Мирослава. Как жаль, Яринка, что тебя посылают в город.
Ярина. Такая уж моя доля. До свидания, если еще увидимся.
Мирослава. Ой… Подожди, я одна боюсь заходить в хату.
Яринка. Тоже мне партизанка! — и послышался грустный смех, какого никогда никто не слыхал от Яринки.
Сухо, как аист клювом, щелкнула щеколда, отскочили наружные двери, и Данило приподнялся на локте, еще не в силах отделить сон от яви. Он слышит в сенях шуршание, затем распахнулась дверь и в хату вошли две женские фигуры. Данило хочет окликнуть их, но что-то перехватило дыхание, отняло речь, и только мысленно обращается он к ним и ощущает, как радость охватывает его: в лунном сиянии увидел те волосы, что дозревали на его руке.
— Посидим, Яринка, перед дорогой, — сказала Мирослава и села возле окна. — Как-то тебе будет в том городе?
— Завтрашний день покажет. Сагайдак сказал, что в управе есть верный человек. Вот если все обойдется, стану я и хозяйкой кафе, и шинкаркой в нем.
— Ой, как это страшно, — вздохнула Мирослава. — Мы будем среди своих, а ты среди чужих. — И вдруг испуганно поднялась. — Вроде кто-то приходил сюда.
— Наверное, мой дедусь.
— Так почему же он поставил чеботки на завалинке?
— Мирослава, не бойся, это я. — Данило так тихо сказал, что и сам едва расслышал свой голос.
— Ой! — одновременно вскрикнули Мирослава и Яринка, рванулись к двери и остановились. — Кто это?
— Не узнали? — хочет усмехнуться Данило, да что-то и усмешку, и голос сдавило ему.
— Данило! Данилко! — вскрикнула Мирослава и, не то смеясь, не то плача, бросилась к нему.
— Неожиданно, зато эффектно, — вставила Яринка, блеснув своими театральными познаниями, засмеялась, подошла поздороваться к Данилу, а потом произнесла известную реплику: — Мавр сделал свое дело — мавр может уйти, — и выскользнула из хаты, неизвестно почему вытирая рукой ресницы.
Данило обнимает Мирославу, подводит ее ближе к залитому лунным светом окну.
— Ты? — и сам понимает, что трудно задать более нелепый вопрос.
— Я, Данилко, — улыбается, и вздыхает, и всхлипывает одновременно Мирослава. — Пришел?
— Пришел. Сколько думалось об этой минуте, — и поднимает ее на руки, прижимает к себе.
— А сколько дней и ночей я высматривала тебя и возле хаты, и возле брода.
— Но где ты ходишь по ночам? Так перепугала.
— Вправду? — тихонько, по-детски, засмеялась Мирослава. — Тебя — и перепугала?
— Ну да. Так где бродишь по ночам, да еще с карабином?
— Мы только что из партизанского отряда Сагайдака. Опусти на пол, тебе тяжело.
— Так ты партизанка?!
— А почему это тебя удивляет?
— Как-то не думал об этом.
— Так сама жизнь рассудила.
— Кто-нибудь еще, кроме вас, есть там из женщин?
— Пока еще нет, да и Яринка. наверное, уйдет от нас. Нам отдельную землянку оборудовали, печь из железной бочки поставили, а в гильзах от снарядов горит огонек и стоят цветы… Данило, родной! Никак не верится. Похудел, побледнел. Верно, был ранен.
— Да был.
— И куда? — вскрикнула Мирослава.
— В одно счастливое место — недалеко от сердца.
— Он еще и смеется.
— Потому что уже прошло. А как ты чувствуешь себя? — Спросил, тревожась, думая о той тайне, которая волнует каждого отца.
— Мы хорошо чувствуем себя, — и уткнулась головой в его грудь.
— Спасибо, милая, спасибо, любимая, — целует ее, целует ее пшеничный сноп, который теперь пахнет не маттиолой, а лесом и дымом.
На какое-то мгновение она замерла возле него, а потом, встрепенувшись, глянула в окно.
— Светает, Данилко, нам скоро надо в леса. Я пришла за одеждой и сапогами.
— Меня возьмешь с собой?
— А как же! Сагайдак будет рад.
— Ты откуда знаешь?
— Потому что он несколько раз спрашивал и говорил о тебе. У тебя есть какое-нибудь оружие, потому что у нас без него не принимают в отряд?
— Вот так и говорили они о любви, — печально улыбнулся Данило.
— Что поделаешь, любимый, если война… Собирайся, Данилко, a то уже просыпается калиновый ветер…
— И в броде утки расклевывают ночь, — повторил Данило те слова, которыми Мирослава часто встречала их рассветы.
XVIII
Утренний лес, утренние клубы шумов, утренние нетронутые слезы росы, что в предосенье пахнут вином, и первый всполох солнца на косах Мирославы и стучащее сердце: а как его встретят здесь? В тревоге сходится и расходится водоворот мыслей, они то поднимают тебя на крыльях, то жалят, словно шершни.
— Волнуешься? — догадывается Мирослава, что беспокоит Данила, и слегка прижимается к нему плечом, в которое вдавился ремень карабина.
— Беспокоюсь.
— Все, любимый, будет хорошо, — осветила его таким взглядом, какого, верно, ни у кого в мире нет.
Вот тебе и хрупкая вербочка с карабином на плече, вот тебе твоя верная судьба.
— Было бы это к добру. — Данило невесело подсмеивается над собой, а в мыслях то встречается с Сагайдаком, то сражается с врагами, ведь для этого и в снах, и наяву спешил сюда. Тут он не пожалеет ни своих сил, ни фашиста, будь проклят он!
— Вот и подошли к нашему жилью! — остановилась, повернулась к нему Мирослава. — Я к своей землянке сразу привыкла. И днем, и ночью лес наполняет ее своим шумом. Проснешься от него — да и вспомнишь и свои поля, и татарский брод, и калиновый ветер.
Данило улыбнулся.
— Ты и сейчас такая, будто из калинового ветра вышла.
— Нравлюсь тебе? — спросила будто с насмешкой и потянулась к нему.
— Самая лучшая в мире.
— Не разбрасывайся так мирами… Нам близнецы в землянку петуха бросили, не петух, а пучок огня. Ему не с кем драться, так он вскидывается на каждый звук лесной птицы.
Неожиданно тихий оклик:
— Стой! Руки вверх! — и сразу же веселый смех.
Из-за деревьев плечом к плечу выходят с оружием в руках Роман и Василь, высокие, стройные, буйночубые, они идут между деревьями, как боги леса, а за ними двумя тропинками темнеет трава, стряхнувшая росу.
— Вот же зловредные, непременно надо им напугать! — деланно хмурится Мирослава. — И кто вас научил так маскироваться?
— Секрет партизанской фирмы. — Близнецы здороваются с Мирославой и Данилом. — Вот и вы прибились к нам!
— Прибился, — волнуется и даже завидует близнецам Данило. — Не прогоните?
— Такое скажете в воскресенье! — искренне удивляется Роман, которого Василь почему-то называет старшим. — Побудьте тут, я пойду к Сагайдаку, потому как порядок есть порядок.
Он незаметно исчезает в тенях, в шумах, в деревьях, а за ним идет Мирослава — даже ей нельзя стоять возле дозорного.
— У нас командир не терпит беспорядка, — поясняет Василь, приглядываясь к лесу и дороге, которая и в колеях уже заросла травой — давно, видно, не ездили по ней. — Попытался кое-кто своевольничать, да потом краснел, как рак, перед всем отрядом. А одного индивидуума, что очень рвался к власти, выгнали из отряда. И недаром — он уже пристроился в церкви дьячком. Святые куличи, говорит, брюха не разрывают. Что вы на это скажете?
Данило слушает и не слушает Василя: мысли идут вразброд, а минуты тянутся, словно вечность. Кажется, не дни, а годы ждал он часа этой встречи. А разве не годы? Ведь еще с детства, живя романтикой книг и живых рассказов, не раз видел себя партизаном. Вот и должен теперь делом доказать, на что способен.