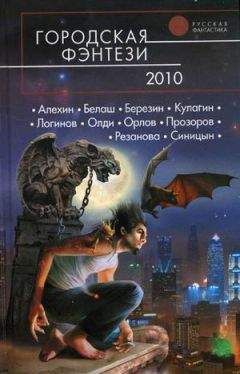Леонид Соловьев - Новый дом
– Рука ноеть, – вздохнула она. – Ломить, сынок, до самого плеча.
Веки у нее были воспаленные, то и дело она смаргивала слезу. Фиолетовым глянцем отливала ее рука, грузная и толстая, как полено. Пониже локтя белела язва с багровыми рубчатыми краями.
– Опять у Кирилла была? – зловеще спросил доктор.
– Ась? – пискнула старуха, притворяясь глухой.
– Без руки останешься, будет тебе «ась». Была у Кирилла? Ну, сознавайся!
Уже давно воевал доктор с этой старухой: она с тупым упрямством ходила и в амбулаторию и к знахарю, полагая, очевидно, что один лекарь хорошо, а два – лучше.
Доктор допрашивал ее с пристрастием. Она созналась:
– Ходила, сынок! Курочку отнесла.
– А я тебе говорил, а?.. Говорил я тебе или нет?
Старуха не обнаружила никаких признаков раскаяния.
Доктор сказал:
– Иди! Что стоишь! Я после Кирилла лечить не буду!
Старуха заголосила и, кряхтя, держась скрюченными пальцами за бревенчатую стену, встала на колени.
– Ш-ш-ш! – зашипел растерявшийся доктор, закрывая входную дверь. – Вставай! Ну, вставай!
Она продолжала голосить. Доктор поднял ее. Она висела на его руках, сбился ее синий платок, рассыпались мутные космы. Доктор усадил старуху на скамейку и, сердито пофыркивая, забинтовал руку.
– Готово, – сказал он, чувствуя на языке сладкий запах йодоформа. – Ты, бабка, просто-напросто дура! А с этим мерзавцем я сегодня поговорю всерьез!
Старуха ушла, шаркая лаптями.
– Черт знает что! – плюнул доктор.
Он достал из ящика рыхлую бумагу с мохнатым обрезом. За дверью, в его комнате, слышались сдержанные голоса Кузьмы и Устиньи. Слов доктор не мог разобрать, да и занят был совсем другим делом.
Первое заявление – в Мосздрав о переводе – было очень коротким. Второе – в милицию – едва уместилось на двух листах. Доктор вспомнил Кириллу все грехи: мальчика, которого пришлось положить в больницу, беременную женщину, едва не умершую от горшка, поставленного на живот, различные язвы, карбункулы и фурункулы и, наконец, упрямую старуху.
«Последний случай особенно показателен, – писал доктор, – и я в целях охраны здоровья того малосознательного меньшинства населения, которое все еще продолжает пользоваться услугами бабок и знахарей, категорически требую немедленного удаления означенного знахаря Кирилла из района действия амбулатории».
Доктор перечел вслух эту заключительную фразу и остался доволен; она звучала внушительно и тяжеловесно, как в дипломатической ноте.
23
– Эдак, эдак, – говорил между тем Кузьма Андреевич. – Значит, взяла его без театров тоска…
Чтобы подчеркнуть свою полную незаинтересованность, он ковырял пальцем смолистый сучок в стене.
– Ты, Устя, молчи покеда.
– Как же так?
Голос ее, в котором явственно слышалась женская обида, вот-вот обломится.
– Молчи, – повторил Кузьма Андреевич тоном значительным, но неопределенным.
Можно было подумать, что он знает способ оставить доктора в деревне. Устинья так и поняла его слова, обещала молчать. Ему было неловко смотреть в ее глаза, просветленные надеждой.
Председателя нашел он в правлении и попросил немедленно – завтра или послезавтра – выдать весь причитающийся хлеб и картошку. И в председательские глаза ему было неловко смотреть.
В полдень он вторично явился в амбулаторию вместе со своей старухой. Они освободили пристройку. Березовые дрова, запасенные еще кулаком Хрулиным, были сухими до звонкости и, падая на землю, подпрыгивали.
– Полезем на подлавку, – сказал Кузьма Андреевич.
Старуха робела на лестнице, подолгу нашаривала ногой ступеньки.
– Ох, Кузьма!..
На подлавке пахло птичьим пометом, было темно, и только близ слухового окна, куда проходил рассеянный свет, бледно проступали балки, затканные паутиной, и угол какого-то продавленного ящика. Летучая мышь шарахнулась над головой Кузьмы Андреевича и, ослепленная солнцем, пошла чертить углы и зигзаги в ясном холодном небе.
Кузьма Андреевич шел ощупью. Паутина назойливо липла к его лицу. Должно быть, паутина и была виновата в том, что им овладело чувство безотчетной тяжести и тревоги.
Приглядевшись, они со старухой взялись за работу. Сгаруха веником собирала мусор, а Кузьма Андреевич швырял его через слуховое окно на крышу. Слежавшийся мусор падал на железо с хрустким шорохом, клубилась пыль, подхватываемая ветром, – казалось, дом горит.
– Уедет… заболеешь… да и помрешь, – тихонько всхлипывая, сказала старуха.
Кузьма Андреевич рассердился, что она проникла в его сокровенные мысли.
– Мети знай!
Окончив работу, он застелил подлавку соломой и дерюгами и спустился по лестнице вслед за старухой. Доктор чистил на крыльце щеткой свой пиджак. Кузьма Андреевич хотел было подойти, поговорить, но сегодня доктор был неприятен ему. Кузьма Андреевич знал, что должен радоваться его отъезду, которого ждал все лето, но радость заглушалась чувством большой обиды на то, что городские ученые люди так пренебрегают мужиками. Весной, провожая фельдшера, Кузьма Андреевич уже испытал однажды такое чувство, сегодня было оно во много раз сильнее, потому что Кузьма Андреевич научился уважать себя, а доктор уезжал как-то нехорошо, выказывая полное безразличие к здоровью и Кузьмы Андреевича и остальных колхозных мужиков.
Кузьма Андреевич прошел мимо доктора, пытаясь думать о печке, которую необходимо поставить в бывшей приемной на тот случай, если отдадут не весь дом, а только половину.
– Заболеешь и помрешь, – повторила старуха, нагоняя его.
Он крикнул:
– Молчи!
Перед ним блестел под осенним солнцем холодный пруд. Кузьма Андреевич остановился под ветлами. Чтобы отогнать лишние, неприятные мысли, он стал считать, сколько приходится ему хлеба на четыреста семьдесят трудодней. Он считал сначала пудами, а потом мешками: желто льется гладкое прохладное зерно, лязгают весы, крепятся и кряхтят подводы, лошади тянут их, широко расставляя задние ноги. С веселым гулом ходят на мельнице жернова, посвистывает тонкой струйкой мука – белый пшеничный размол, теплый, мягкий и чуть припахивающий паленым.
Кузьма Андреевич пошел по берегу. Пустота была перед ним – синяя, холодная вода и голые деревья. «Дерево, – подумал он, – без разума и без души, а дольше человека, живет! Нет справедливости в таком законе!..»
24
Вечером доктор пошел прогуляться. Огороды были сплошь взрытыми, не успели убрать только свеклу – она поднимала чугунно-литую ботву.
Кирилл суетился около своей избенки, готовился к зиме, законопачивал щели. Заметив доктора, быстро нырнул в низенькую дверь. Доктор вошел следом. Знахарь сидел на обычном месте – под образами, дрожала над его желтым– черепом красная капля лампады.
– Ты напрасно стараешься, – сказал доктор. – Зимовать тебе здесь не придется.
– А ты садись, золотой, – певуче перебил его знахарь. – Ты садись, чего ж говорить стоя. Чай, не ярманка.
Был он весь умиротворенный и благостный, похожий на изображение Серафима Саровского.
– Послезавтра я отправляю с почтарем заявление в милицию, – сказал доктор.
В маленькое окошко падал солнечный луч, пахло сухой полынью, ладаном.
– Я все молюсь… все молюсь, – невпопад ответил Кирилл. – Куды ж мне деваться теперь, золотой?
– Сам виноват.
– По-божескому… – начал Кирилл.
Доктор захлопнул дверь.
В оголенных полях сторожа дружелюбно кликали доктора, просили закурить. Падала роса, через брезентовые сапоги доктор чувствовал холодную влажность травы. Раздумывая о Москве, он незаметно ушел далеко. Прямая, гладкая река напомнила серым и тусклым блеском Ленинградское шоссе, и доктору до боли захотелось услышать автомобильную сирену. Было тихо. Где-то в страшной высоте, под самыми звездами, тонко и напряженно высвистывали утки – летели на юг. Верхушки стогов высились на том берегу, над белесым туманом. И доктору вдруг показалось, что когда-то он видел уже все это: и холодную реку, и выгнутый месяц, и стога, похожие на татарские шапки..
25
В это время шло заседание правления. Председатель заканчивал доклад об итогах уборочной и распределении урожая по трудодням.
Кузьма Андреевич сидел в тени, спиной к двери, и притворялся, что внимательно слушает. Тревожные и неприятные мысли, томившие его днем, не исчезли.
– Переходим к следующему вопросу, – сказал председатель, и в его руках появилась тетрадь в клеенчатой обложке.
– Это план, – пояснил председатель. – План колхозной жизни. Сочинял я его цельные полгода, а нынче хочу посоветоваться. Как мы должны идти к зажиточной жизни, то первое дело нам без электричества невозможно. Магистраль от нас за двенадцать километров, значит столбов…
Он развернул тетрадку. Он читал, бережно листая слипшиеся страницы. Окно обрывалось в черную бездну, и председателю не хотелось верить, что, перегнувшись через подоконник, он может ощупать сырую землю, ветхую завалинку и жгучую жесткую крапиву. И легко вообразить, что сидит он, Гаврила Степанович, с правленцами в новом доме, на втором этаже; сидит он и переговаривается с Москвой по телефону. Заседали всю ночь – рассвет, и бледно проступает в тумане колхоз. Он виден из окна целиком – большой, упирающийся в самую реку, устроенный точь-в-точь по записям в клеенчатой тетрадке. Столбы сжимают фарфоровыми кулаками провода и несут их далеко с пригорка в сырую низину, за двенадцать километров, к магистрали, а в самом колхозе провода расходятся к новой школе, больнице, свинарникам, коровникам, конюшням, амбарам, теплицам, инкубатору, мельнице, маслобойке и мужицким избам; все это белое, чистое, оштукатуренное снаружи, чтобы не схватило пожаром. В березовой роще – аллеи, скамейки, таблички; парни и девки ходят в рощу крутить любовь, а ребятишки – пить березовый сок, за что и бывают нещадно секомы ремнем или прутом, потому что родителей штрафуют согласно приказу за порчу стволов. И строится в березовой роще (председатель все-таки не смеет подумать, что уже готов, – только строится) театр, где будут спектакли и кино. Посреди всего этого великолепия, белого, чистого и просторного, обозначенного вывесками, ходит он, Гаврила Степанович, в городском пиджаке, в соломенной шляпе с черной лентой, в желтых полуботинках и объясняет приезжим экскурсиям новую жизнь.