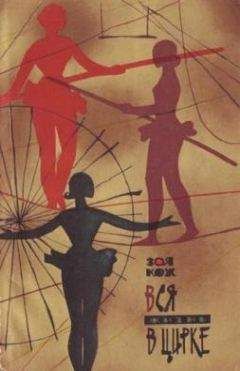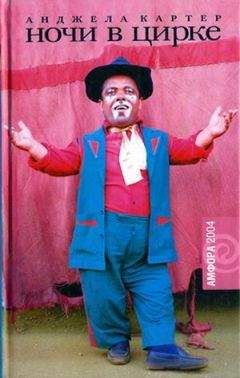Александр Бартэн - Под брезентовым небом
Тут и второй звонок. На этот раз униформисты вышли к форгангу в полном параде: мундиры с позументами, наискось, через грудь, шнуры с золотыми кистями. Сразу сделалось празднично и будто света прибавилось. И наконец последним, самым последним вышел к форгангу сам Герцог. Да, это был он — Владимир Евсеевич Герцог, инспектор манежа. Однако неузнаваемый, подобный божеству, если можно представить себе божество облаченным во фрак с панцирно-крахмальной грудью. Это божество излучало нестерпимый блеск. Блеск пронзительно зорких глаз. Набриолиненных волос. Запонок в белоснежных манжетах. Лакированных туфель...
Униформисты построились в ряд, и Герцог обошел их, придирчиво отмечая малейшую небрежность (здесь складка морщит, там шнур перекрутился). Затем обернулся к артистам, и они, мгновение назад стоявшие в вольных и непринужденных позах, тут же притихли, подобрались, подтянулись как-то, и даже надменная лошадь обеспокоенно шевельнула ушами. «Бантик! Бантик надо пышнее расправить!» — вполголоса посоветовал Герцог юной артистке, участнице группы прыгунов-акробатов. Смущенно вспыхнув, она поспешила к зеркалу. И все они — прыгуны, эквилибрист, конный жонглер, дрессировщица собачек, воздушная гимнастка, коверный клоун, — все затаили дыхание. И тогда, сверясь с часами, извлеченными из жилетного кармана (еще один блеск — блеск цепочки от часов!), Герцог нажал на кнопку звонка, и сверху, из оркестровой раковины, низвергся бравурнейший марш.
Первым номером программы значилась воздушная гимнастка. Ничего подобного. Первый выход принадлежал Герцогу.
Вот он прошел по живому коридору, образованному униформистами. Вот приблизился к барьеру, и створки барьера будто сами собой перед ним раскрылись. Вот ступил на опилки. Марш оборвался.
— Программу сегодняшнего экстра-представления открывает.
Что за вокал! Что за гудящий голос!
— Программу открывает воздушный акт!
И жест рукой — великодушно широкий, царственно щедрый. Такой, точно каждого в зале Герцог одновременно одаривал и простором подкупольного пространства, и первыми росчерками трапеции, на которой, поднявшись по канату, только что вниз головой повисла гимнастка.
После, в разные годы, я видел немало других инспекторов, казалось бы не менее опытных, умеющих полновесно подать и себя, и программу. Нет, таких, как Герцог, больше не встречал. В нем была особая цирковая стать, особая колоритность.
В дальнейшем, когда знакомство мое с Владимиром Евсеевичем упрочилось, я смог расспросить его о прошлой жизни. «Происхождением моим интересуетесь? — улыбнулся он. — Самое чистокровное. И прадед, и дед, и отец — все рождались возле манежа, жили на нем, при нем и кончали жизнь!» Настоящая фамилия Владимира Евсеевича была Герцовский. С юных лет изменив ее на более звучную, он отправился в путь по тогдашней провинции: знал и балаганы, и на скорую руку сколоченные дощатые цирки, и кабалу всяческих антрепренеров. Не было, кажется, жанра, в котором он не работал бы. Остановившись наконец на гимнастических кольцах, добился прочного признания, а затем, уже в зрелые годы, перешел на работу шпреха.
Когда бы ни приходил я в цирк, Герцог всегда был на месте и всегда во всевозможных хлопотах: то униформистов тренирует, чтобы быстрее на манеже управлялись, то авизо сочиняет — распорядок номеров в программе, то расписание репетиций... В те годы в цирке много было иностранных артистов. Не поручусь, что Владимир Евсеевич в совершенстве владел языками, но, пользуясь неким международным цирковым жаргоном, он искусно подкреплял его самой выразительной жестикуляцией.
Особенно пристрастен был Герцог к ритму представления. «Темпо! Темпо!» — любил он напоминать. Это не значит, что он «гнал» программу. Напротив, иногда сознательно шел на замедление. Режиссуры, как таковой, в те годы в цирке почти не знали, но инстинктивно, руководствуясь долголетним опытом, Герцог искал в программе наиболее выгодные соотношения номеров и потому особенно тщательно, точно партитуру, составлял авизо.
И еще одно превосходное качество. От первого и до последнего номера присутствуя у манежа, Герцог заражал зрителей своим вниманием, своей кровной заинтересованностью. В том-то и дело, что он не служебно присутствовал, а сопереживая все трудности, радуясь всем успехам. Если же артист «заваливал» или «мазал» (даже в лучших программах не исключено такое), после конца представления его ждал разговор с инспектором, но всегда с глазу на глаз, при закрытых дверях.
Как-то я спросил Владимира Евсеевича, не лучше ли проводить такие беседы во всеуслышание, в назидание остальным артистам.
— Нет, не надо! — покачал головой он (не забудем, этот разговор происходил в двадцатые годы). — Уж очень он незащищенный, цирковой артист. Как ведь живет? Все в одиночку, в одиночку... Не поцарапать бы излишне!
Уважительность ко всему, что живет и трудится в цирке, была неизменным жизненным правилом Герцога. Однажды на собственном печальном опыте и я смог убедиться в этом.
Прибыла группа бенгальских тигров — великолепно крупных и свирепых хищников. Их разместили в отдельном помещении, приставив к запертым дверям специального сторожа: лишь укротитель имел доступ туда. Однако, как-то утром заявившись в цирк (постепенно я приохотился посещать и репетиции), я застал запретные эти двери открытыми: производилась уборка. И, заглянув за порог, увидел клетки. Тигры еще спали, и из клеток свисали их полосатые — рыжие с черным — хвосты.
Тогда-то мне и взбрело в голову: «Хорошо бы дернуть тигра за хвост!» Несуразная мысль, и я постарался тут же ее забыть. Но, помимо моей воли, мысль эта вернулась вскоре и уже не захотела со мной расстаться. «Хорошо бы дернуть тигра за хвост!» — опять и опять повторял я про себя. «Хорошо бы! Хорошо бы! Хорошо бы!» Покоя больше я не знал. Ни днем, ни ночью. Даже сны мои сделались тигриными, хвостатыми...
Кончилось тем, что, не в силах противиться дольше безумному желанию, я опять спозаранку явился в цирк. Дождался момента, когда служители открыли двери для уборки. Проскользнул, подкрался к одной из клеток, схватился рукой за хвост...
Даже не знаю, что заставило меня опрометью бежать из цирка: тигриный рык или панический страх. Так или иначе, очнулся я уже в квартале от цирка и тут же увидел перед собой Герцога.
— Что с вами, молодой человек? Вы мчались, будто по пятам погоня!
Кому-кому, а Владимиру Евсеевичу я не мог солгать. Чистосердечно признался.
— Так, — сказал он, холодея лицом. — А я-то думал, что вы по-настоящему любите цирк!
— Люблю!
— Неправда! Если бы любили, не решились бы оскорбить артиста!
Я стал оправдываться: никто не заметил, да и укротителя не было.
— При чем тут укротитель? — негодующе оборвал меня Герцог. — А тигр — он кто, по-вашему? Он разве не артист?
Прошло еще несколько лет, и жизнь моя сложилась так, что пришлось отойти от цирка. Затем война, армейская шинель. Когда же, демобилизовавшись, я смог приехать в Ленинград, чуть ли не в первый же вечер поспешил на Фонтанку.
Имя Герцога в афише не значилось. Другой, мне незнакомый инспектор вел программу. В антракте, по старой памяти, я направился за кулисы, и тут мне навстречу кинулся старый человек.
— Вернулись? Вы вернулись?
Это был Герцог. Мы крепко обнялись.
Сильно, очень сильно он сдал: поредели волосы, сгорбились плечи, выцвели глаза на сморщенном, исхудалом лице.
— Да, да, теперь я уже не тот, — развел руками Владимир Евсеевич. — А все же еще держусь, еще полезен за кулисами!
Оглядел меня и, как некогда в директорской ложе, так же ласково притронулся ладонью к плечу:
— Вернулись! Выходит, в самом деле любите цирк?! А я ведь помню, я не забыл, как вы когда-то обошлись с бенгальским тигром!
Обменявшись адресами, мы условились встретиться. Но уже на следующий день мне пришлось срочно выехать в командировку, она затянулась, а когда, вернувшись в город, я стал просматривать скопившиеся газеты, в одной из них увидел траурную рамку... Опоздал!
Вот и все, что я хотел рассказать о Владимире Евсеевиче Герцоге, многие довоенные годы украшавшем собой манеж Ленинградского цирка. И неважно, что при последней встрече я увидел его немощным, дряхлым. В памяти моей он по-прежнему остается блистательным шпрехом.
Бегут последние минуты. Яркий свет озаряет манеж. Выходит униформа. Вот и Герцог. Он ступает на опилки. Оглядывает зал. И в тишине, полной ожидания и предвкушения, объявляет первый номер. И тут же великодушнейше щедрым жестом (никогда не забыть этот жест!) дарит залу самое драгоценное: все краски, всю силу, всю радость циркового искусства.
ЮБИЛЕЙНОЕ
Случилось так, что однажды (было это осенью двадцать седьмого года) клоун-сатирик, клоун-прыгун, «шут народа», как он сам себя величал, Виталий Ефимович Лазаренко заподозрил меня в подражании.