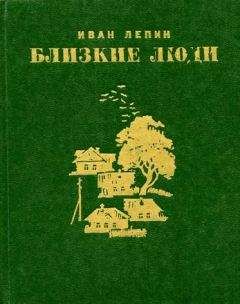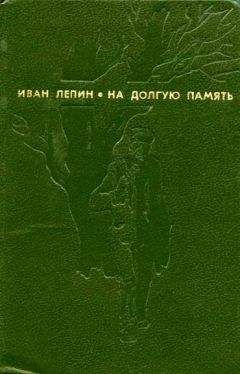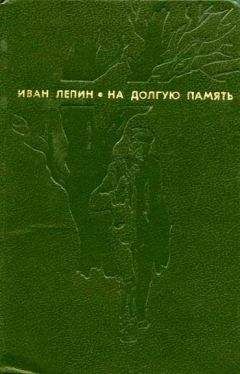Иван Лепин - Близкие люди
— Ладно, примем мы ваших поросят. Но скажите там у себя в деревне, чтоб до Октябрьских больше не привозили.
Аркашка выскочил из приемной и кинулся на улицу, где по-прежнему тарахтел его трактор (Аркашка не выключал мотор от начала до конца рабочего дня), где в безнадежном ожидании стояли Дамаев и Павлик.
Дамаев уже улыбался, Аркашка выбивал запылившийся зеленый берет, а Павлик невесело топтался на месте.
12
Война, можно сказать, нашу Хорошаевку помиловала. Страшные бои рядом шли, бомбы на огородах рвались, подбитые — и наши, и немецкие — самолеты падали за Сновою, а деревню ни с одного боку не зацепило. Одна только колхозная конюшня сгорела.
Помиловала, война…
Я лежу на своей скрипучей раскладушке и загибаю на руках пальцы. Начинаю с конца деревни. Шишкин — убит, Кузьма Полинин — убит, тесть Васьки Хомяка — убит, мой отец, потом Сенька, Иван, Кузьма — братья Федора Кирилловича, Гришка Серегин, Колбаихин муж, Аким Ковалев, Матвей, Фрол Угольников, Петрак Тарубаров, Илья Чумаков… Четырнадцать убитых на тридцать два двора…
А среди вернувшихся — тот без руки, тот с осколком в легких, тот хромает, тот трясется после контузии.
Что и говорить, помиловала Хорошаевку война…
Полдеревни вдов, полдеревни сирот.
Слезы, слезы, слезы…
Однако, сколько ни плачь, погибших не вернешь. А жить надо было.
И жизнь продолжалась.
Мужиков заменяли подростки. И учиться б еще нужно, да мать семью одна не прокормит, с хозяйством каким-никаким одной ей трудно управляться. Бросали школу, и, кто поспособнее, доучивался уже потом в вечерних школах да на разных курсах.
Медленно, болюче становился колхоз на ноги. Как сейчас, помню однорукого бригадира Тимоху. Ходил вдоль деревни он в победную весну, давал наряд:
— Нынче, бабы, пахать. Поднатужимся, а молодцы ваши тем временем Берлин возьмут.
Вот он к нам повернул, помахивая хворостинкой, Дуня, принесшая нам черствую лепешку, шикнула на Дашу:
— Прячься! В чулан быстро! Скажем — нетути.
Даша было, кинулась к дверям, во в мгновение раздумала.
— Не, не могу. Узнает — застыдит…
— Во, дуреха! Ну, угробляй корову, мори ребят.
А Тимоха уже под самым окном.
— Даша, пахать…
— Можа, дядь Тимофей, отдохнет сёдни корова-то. Утром одну литру всего дала…
Тимохе, конечно, жаль обижать нашу сиротскую семью — пятеро, как-никак: Даше, старшей, восемнадцать, мне, младшему — шесть. Но и о председателевом приказе он помнит: на неделе закончить пахоту.
— Вот управимся, и отдохнет твоя корова, — опустив глаза, говорит Тимоха. — А пока, дочка, сама понимаешь… Да, ты когда этих двоих в приют отдашь?
Двоих — это меня и сестру Аню. Многие Даше советуют отдать нас в детдом, она вроде бы и соглашается, даже бралась уже документы оформлять, но дела до конца так и не довела.
— Жалко, дядь Тимофей…
А мне, признаться, очень хотелось в детдом. Что-то таинственное возникало в моем воображении, когда произносили это слово. Возникал большой-пребольшой белый дом — в сто раз больше нашей церкви. Дом стоит на бугре, над речкой — в сто раз шире нашей Сновы, вокруг лес растет — в сто раз гуще нашего Круглого леса.
Перед домом — солнечная поляна. На ней — длинный ряд столов ну как… на поминках матери. Нет, как на последнем колхозном празднике. А на столах тех — белый хлеб, конфеты-подушечки, морс, и можно есть все это сколько хочешь…
Зря все-таки не отдает нас Даша в детдом…
А пока мы уплетаем в пять ложек из общей миски картофельную похлебку, жидко забеленную молоком.
Корова Лыска тем временем щиплет в саду прошлогоднюю траву. У коровы костлявая спина — после голодной зимовки ходит она спотыкаясь, а в печальных глазах — упрек Даше за то, что она водит ее в поле, где Лыску впрягают в плуг. А Даша иногда еще и стегает ее веревкой…
— Не веди Лыску, — умоляю я старшую сестру, и глаза мои наполняются слезами.
— Ты еще тут!.. — заругалась на меня Даша. — Я не поведу, другая не поведет, третья, а что жрать осенью будем?
Заругалась, а сама повернулась к печи и плачет. Я заметил, от меня ничего не утаишь…
Взяла ухват, ловко вытащила из печи чугун, набросала в него несколько пригоршней молодой жигуки. Значит, на обед щи будут! Ура! Вон какой чугунище! Хлебать можно — от пуза! И не задумаешься даже, почему жигука, когда ее ешь, не кусается, а когда дотронешься рукой или нечаянно наступишь, так она жжется.
…Я лежу, загнув на руках все пальцы — их при счете не хватило. На губах — несладкий вкус ничем не заправленных пустых крапивных щей.
Тишина в деревне и густая осенняя темнота. На потолке жужжит муха, попавшая в паутину.
Не спится. Пальцы на руках боюсь разжать… Четырнадцать убитых на тридцать два двора…
Это, наверно, Дамаев разбередил мою память. Когда возвращались из Золотаровки, он, молчун, вдруг разговорился.
— А ты чей там в Хорошаевке будешь? — спросил он.
— Был, — поправил я его. — Захара знали?
— Знал. И ты — сын?
— Я.
— Вот это да! Я ж твоего отца, как брата, знаю. Мы с ним воевали. В сорок третьем, когда под Понырями стояли, сено для армейских лошадей вместе косили… Ох и ловок был! Маленький, а любого обставлял. Хороший мужик. Мы в одной землянке жили. Бывало, курим, он и говорит: «Никудышний из меня вояка, я винтовку так и не научилси правильно держать. Вот косишь — другое дело. Или нехай пахать…» В первом же бою разлучились. Я в плен попал, а он — не знаю куда… Где его, говоришь, убило?
— Под Витебском.
— Ну-ну!.. Хороший мужик был… Да, сколько нашего брата полегло!..
Четырнадцать на тридцать два двора…
Я оделся, вышел на улицу. В листве кленов, выросших выше хаты, пошумливал ветер, светилось окно у Аркашки Серегина — должно, кормили новорожденную девочку.
Небо чистое, звезды на нем крупные, яркие, даже, кажется, потрескивают, как горящие угольки…
Спит Хорошаевка.
13
Две стены у Дуни — сплошь в фотокарточках. Самодельные рамки покрылись пылью, стекла позасижены мухами — Дуня в последние годы не так следит за чистотой, как раньше. Да и много возни, если приняться протирать. Вот будет побелка…
Каждый раз я вглядываюсь в фотографии, в знакомые и незнакомые лица, открываю новых, ранее не замечаемых людей. И удивляюсь, что вот эта большеротая девчушка — ныне уже бабушка: содрогаюсь, узнав, что вот этого подростка в пилотке уже нет в живых — подорвался после войны на мине.
Фотографии, фотографии… Пожелтевшие и свежие, с ноготь размером и во много раз увеличенные — с настенное зеркало.
Фотографии, фотографии — своя домашняя летопись.
Вот в черной большой рамке фото тридцатых годов — шесть рядов овальных снимков. В левом верхнем углу нарисован Сталин, а правом — Ворошилов. Внизу—на ленточке — подпись: «Выпуск м/лейтенантов артиллеристов КОВС». Среди них — Петр, неродной Дунин сын. Выпускников — я подсчитал — сто двадцать пять…
А сколько их осталось теперь, после войны?
Еще: пожелтевшая любительская фотография. Емельян Иванович с первой женой Павлой и Петр, Оля, Надя. Надя на руках у матери сидит — еще совсем кроха.
— В двадцать восьмом году они снимались, — дает объяснения Дуня — шьет ли, готовит обед или моет посуду, — но каким-то чутьем угадывает, на кого я смотрю в данную минуту, и тут же рассказывает, кто сейчас где, кто кем, кто куда.
Лица, лица, лица… Дети, родственники, внуки, правнуки и просто знакомые…
— А что ж, теть, вашей фотографии ни одной нет?
Дуня оперлась об ухват — она в печь чугун ставила, махнула рукой, усмехнулась:
— Э-э, детка, рожей я не вышла — сниматься. А чужие карточки люблю беречь. Не так одиноко с ними… А еще — жисть вспоминаешь…
14
Васька Вялых, по-деревенски Хомяк, был ольховатовским примаком: вскоре после войны женился на хорошаевской красавице Полине и перешел к ней жить. Хатенка, в которой выросла Полина, скорее походила на курятник. Перезимовав, Васька ранней весной принялся завозить лес — благо, будучи лесником, он доставал его без особого труда.
А как построился — во избежание последствий оставил лесничество и перешел в колхоз учетчиком. Полина — одного за другим — нарожала ему пятерых детей, которых он без памяти любил и из которых ныне при нем осталось только младшая Людка, а остальные поразъехались. Года три назад он устроился в отдел снабжения на Возовский завод. Полина работала в колхозе, и в общем Васька Хомяк считал свою жизнь вполне удавшейся.
А еще он считал себя добрым. До нынешнего дня считал…
Он сидел на завалинке и боялся войти в хату. Там ревела Людка. Полина то нежно жалела ее, то грозно прикрикивала: «Хватит, успокойся!» Боролись в душе Васьки два чувства — неправоты и правоты. Сначала он особой вины за собой не признавал, но, поразмыслив вот здесь, на завалинке, все тверже уверялся, что неправ был сегодня.