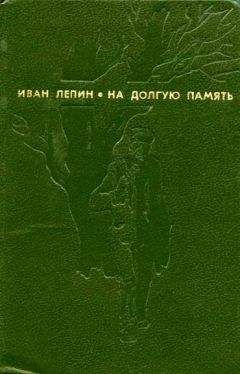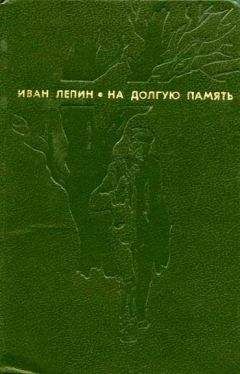Иван Лепин - Родом из детства
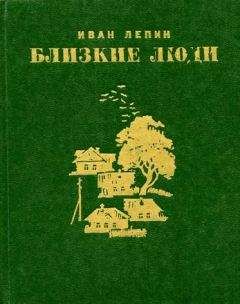
Обзор книги Иван Лепин - Родом из детства
Иван Лепин
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
ГРАМОТЕЙ
Буквы я уже знал давно, по отдельности умел их печатно писать — палкой на снегу зимой, речной ракушкой на песке летом. Ни карандашом, ни ручкой на бумаге мне упражняться не давали: и карандаши, и перья, и бумага были в сорок шестом на вес золота.
И вдруг я неожиданно обнаружил, что для писания вполне годятся древесный уголь и побеленные стенки внутри хаты. Вначале я на печи, чтобы понезаметнее было, рисовал крестики и нолики. А однажды мне захотелось написать целое слово. Вот старшая сестра Даша удивится, когда придет на обед со снегозадержания! Молодец, скажет, ты уже грамотей у меня, через год в школу тебя отдадим.
Только какое слово написать? Долго я раздумывал, мусолил во рту указательный палец. И наконец-то придумал! Слово это…
Во всю стену напротив двери я жирно написал его.
Довольный, уселся на коник, любуясь своей писаниной. Скорей бы Даша приходила!
Наконец мимо замерзших окон мелькнула тень. Условленный трехкратный стук в дверь — и я срываюсь с коника, бегу в сенцы открывать.
Мигом вернулся обратно, чтобы удобно было наблюдать, как изумится сестра.
А Даша, как назло, долго обметала в сенцах снег с бурок. Но и когда вошла, не сразу заметила мое художество, а сначала сняла фуфайку и у порога стряхнула с нее снежную пыль. Бросила фуфайку на спинку лежанки и только тут ойкнула. И застыла, действительно изумившись.
— Кто это написал?
— Я!
— Ты?
— Я! — еще громче вырвалось у меня признание.
Тогда Даша отдернула занавеску на лежанке — под ней хранились пеньковые вожжи. Я вмиг сообразил, что выбрал не совсем удачное слово, и, будто кошка, в три прыжка оказался на печи. Там, забившись в угол, с головой укрылся на всякий случай толстым стеганым одеялом.
И вдруг Даша рассмеялась. Громко, что называется, во весь голос. Так смеялась она редко, только в самые благостные минуты.
— Ты написал?.. Ну, дурачок!.. Хорошо, что признался, иначе я бы тебе задала… Придется-таки пожертвовать тебе карандаш с бумагой, а то все стены измалюешь.
Даша взяла с загнетки гусиное крыло и принялась осторожно сметать со стены непечатное слово.
НА ЛУГУ
Мой отец шестой год лежал в братской могиле. Его отец отбывал срок в тюрьме.
Он жил в большом крепком пятистенке, крытом красной черепицей. А наша трехоконная хата протекала после самого короткого дождика — совсем сгнила на крыше довоенная солома.
Ему брат, живший в городе, подарил новые штаны и ботинки. Мне брат-ремесленник прислал сэкономленные портянки.
И все-таки мы с Серёней дружили. Не я, а он в друзья набивался: он чаще пропадал у меня, он за мной заходил, чтобы в школу вместе идти, хоть и не по пути было.
А уж если совсем признаться, то он еще и задаривал меня. Я не просил, не намекал, а он задаривал. В школу Серёня обычно нес два ломтя хлеба: себе и мне. Если за еду выменивал стакан табаку, половину отсыпал мне. Или почти половину.
Серёня был выше меня на голову. Шея длинная, тонкая, на ней синими ниточками проступали жилы; лицо у Серёни продолговатое, губы тонкие, зубы, как говорили в деревне, лошадиные.
Но какое мне дело до зубов, если в общем Серёня — человек сносный?! Вон он снова идет ко мне, что-то несет за пазухой. В том, что ко мне он идет, я уверен на все сто. К кому ж еще? Никто, кроме меня, с Серёней не дружит, потому что он — сын старосты. Серёня, может, и ни при чем, что отец его у немцев работал, но это даже взрослые не все понимают, а про ребятню и говорить нечего. Старостенком ребята в глаза и за глаза его дразнят, редко когда в игру принимают, обидеть его каждый норовит.
А я с Серёней дружу. Может, потому, что зла у меня на него нету нисколечко, отец его ничего нам плохого не сделал, а, наоборот, когда деревенских девчат и парней угоняли в Германию, он, говорят, забраковал мою старшую сестру — молода, дескать. И отец мой погиб не по вине старосты, а немецким снарядом его под городом Витебском…
В четвертом классе, прошлой зимой, Серёня просился сесть со мной за одну парту, но учитель только усмехнулся: больно разнородные мы. И впрямь, его со мной на передний ряд посадить — он застить будет сидящим сзади, меня к нему на «Камчатку» отправь — я ничего не увижу.
Ну так это не помешало нашей дружбе. Наоборот даже, соскучившись за уроки по мне, Серёня после школы как привязанный за мной ходил. Я, понятно, отплачивал ему чем мог: заступался, если кто-нибудь из тех, кто послабее меня, обижал Серёню, задачки помогал ему решать, по русскому натаскивал.
…И вот Серёня уже поравнялся со мной, он скалит зубы, придерживая руками набитую картошкой пазуху.
— Идем! — зовет он меня.
Я знаю, куда он зовет. На луг к ребятам-гусятникам. У большинства ребят в деревне есть гуси, а у нас с Серёней нет. Сейчас, летом, когда нам бывает скучновато, мы ходим к гусятникам. Там весело, там шумно, там устраивают игры в войну и в салки, купаются. Бывает, что кто-нибудь из ребят находит патроны или даже снаряд, тогда сообща разжигают костер, а сами — по кустам, ждут взрыва…
Серёню принимают в игру, если он приходит с картошкой. И снова ребята разводят костер, пекут картошку, смачно уминают ее и нахваливают Серёню. И он ест, счастливый до невозможности: редки минуты, когда про него хорошее говорят.
— Идем! — повторяет Серёня и делает шаг по направлению к лугу.
Меня оставили дома сторожить сад — груши как раз поспели, — но велик и соблазн очутиться среди мальчишек. Да и надоело сторожить, бог с ними, с грушами, никто их не оборвет среди белого дня.
— Идем, — говорю я, делая вид, что соглашаюсь весьма неохотно.
Мы топаем по пыльной улице, дождей давно не было, пыли много, она приятно щекочет пальцы босых ног.
По небу тихо плавают ватные облака, похожие на сказочных чудищ, вкривь-вкось летают бабочки-капустницы, изредка вскрикивают петухи. В тени еще сносно, а на солнышке жарко, голову печет. Скорей бы на луг — да в речку. В теплую воду, под гусей подныривать.
Прошли деревню, теперь через выгон — и мы на лугу. Уже слышны вскрики подравшихся гусаков, уже пахнет луговою травой. Серёня рядом сопит, опасаясь, как бы под тяжестью картошки не выскользнула из штанов, рубаха. Пот по лицу у него течет, а вытереть не может — руки заняты.
Но уже скоро привал, уже недалеко осталось, вон уже речка видна.
2Нас шестеро было, считая и Серёню, как раз по три картофелины на рот и одна лишняя. Допекались они в торфяных углях, с минуты на минуту можно было начинать их есть.
И тут явился Водяной!
У Водяного глаза круглые, рот широкий, ходит он вертляво, как бескостный. Он лучше всех в деревне плавает, лучше всех ныряет, в воде может быть часами и при этом не замерзает. Однажды он нырнул с моста и не вынырнул. Ребята растерялись, послали за взрослыми, чтоб помогли, кое-кто из смельчаков начал дно обшаривать, ища Водяного. Но минут через десять смотрим, а он по берегу идет и скалится. Оказывается, Водяной по дну проплыл метров пятьдесят и вынырнул под густым, нависшим над речкой кустом ивняка. Отсюда он и наблюдал, как мы, перепуганные, метались во спасение его.
Любимое занятие водяного — топить нас, ребятню. Мы боимся его и, как только он появляется на берегу, все — врассыпную, как мальки при виде проголодавшейся щуки. И горе тому, кто зазевается. Водяной сначала обрушивает на него вал брызг, норовя попасть в лицо, потом прижимает бедолагу к себе и опускается с ним под воду. Конечно, кто дольше Водяного там пробудет? Никто. Бедолага начинает захлебываться, биться в руках Водяного, не в силах, однако, вырваться.
Наиздевавшись, Водяной отпускает свою полуживую жертву.
Было Водяному лет, наверно, пятнадцать, гусей он стерег как зря, а потому их постоянно прихватывал в колхозной ржи объездчик и штрафовал мать Водяного. Мать плакала, а поделать с сыном ничего не могла — он по-прежнему пропадал не около гусей, а на конюшне, с лошадьми. После купания езда на лошадях была второю страстью Водяного.
И вот этот самый Водяной появился теперь у костра. У него в руке ременный кнут, он стегает им по траве, подсекая ее. Затем выкатывает кнутовищем из костра крайнюю картофелину.
— Готова? — спрашивает он у Серёни.
Серёня перепугался больше всех, потому что стегал Водяной по траве как раз у его ног.
— Д-должна, — дрожа, ответил Серёня.
— Тогда на кнут, сбегай моих гусей заверни, а я попробую.
Серёня послушно встал и неохотно поплелся в сторону крутояра, за которым начиналась рожь и где белело теперь гусиное стадо Водяного.
— Поживей, поживей! — прикрикнул вслед Серёне Водяной, а сам, обжигаясь, стал медленно чистить картофелину.
Серёня вернулся вскоре — ему тоже не терпелось попробовать картошки. Он тихо положил подле Водяного кнут и потянулся к костру.