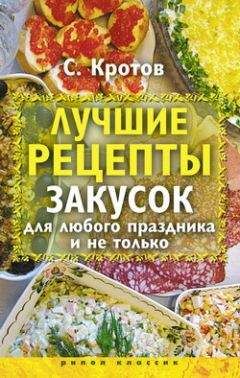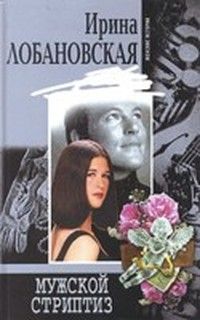Юозас Пожера - Рыбы не знают своих детей
Юлюс умолк и смотрел на дальнюю гору, из-за которой выползала тлеющая головня солнца. Мой друг был печален. С таким лицом на восходящее солнце не смотрят. Это — взгляд, обращенный в себя. Неужели он заново переживал всю эту историю? Или сожалел, что поведал ее мне? Ведь бывает такое: разоткровенничаешься развяжется язык, а потом самому тошно.
— А что ему было за это?
— Кому? — точно его разбудили среди ночи и задали какой-то чудной вопрос, недоумевающе повернулся ко мне Юлюс.
— Да этому, Сидорычу.
— Ничего ему не было. Ведь заявку никто не подал, а то, что был уговор на словах, — это еще доказать надо. Уволили его из хозяйства, на том все кончилось. Правда, ребята его еще нагишом по проселку прогнали. Спрятали в бане не только одежду и сапоги, но даже и полотенце, и веник, шайку и ту куда-то в снег зарыли. Пришлось ему домой бежать в чем мать родила. Говорят, хорошо он выглядел, хозяйство ладошками прикрывши. Некоторые заранее знали, что будет такое представление, — кто-то постарался, раструбил. Ну, перед каждым домом публики было достаточно. Ему и хлопали, и свистели… А мы с ним каждый год встречаемся, когда караван приходит. Сам видел… Да пора кончать эти шутки — он, что ни год, все завышает вес… А… ладно, пора и нам на боковую.
Больше он не проронил ни слова. Подстелил ватник, повернулся спиной к догорающему костру, в котором изредка еще взметалось и снова опадало пламя, и через минуту уже спал завидным сном младенца. Пытался уснуть и я, но не тут-то было. Только закрою глаза, сразу слышу далекий гул моторки. Подниму голову, гляну на реку — интересно, что за моторка, когда она покажется, а ее все нет и нет. Небось у порога застряла, никак не проскочит — мотор знай гудит, а все на одном и том же месте, хотя иногда все-таки кажется, что вроде нарастает. Кто такие? Кого сюда несет? Думаю: может, разбудить Юлюса. Мало ли что. Вот и собаки вроде меня: подняли головы, уши поставили торчком. Слушают, значит. В наше время даже в таком глухом углу не удивишься, если повстречаешь человека. Важно только — какого человека. Всякие в тайге попадаются… А лодки все нет как нет, хотя мотор ревет где-то вдали не переставая. И собаки свернулись калачиком, нос к хвосту, преспокойно спят. Неужели не слышат? И вдруг до меня доходит, что никакая это не моторка, а мириады гнуса наигрывают свою бесконечную песенку.
Третья глава
Мы спустили на реку моторку, закрепили двигатель и попытались завести, но он не подавал ни малейших признаков жизни. Как-никак целую зиму, целую весну пролежал под перевернутой лодкой. Если он так и не заговорит, нам будет суждено оставаться здесь, в стареньком зимовье. Я особенно от этого не страдал, для меня и здесь все в новинку, место совершенно незнакомое. И зимовье вовсе не так уж плохо. Разве что подсушить да подштопать надо. Но Юлюс тихо свирепеет. Ничего не говорит, не ругается, но вижу, как внутри у него все кипит, точно в герметически закупоренной кастрюле-скороварке на сильном огне: в любую минуту может, взорваться. Однако взрыва нет. Юлюс терпеливо копается в моторе. Разобрал до последнего винтика, каждую детальку осмотрел, прочистил, даже прополоскал в бензине. Зло его разбирает. Я понимаю. Мог человек еще целых два месяца побыть с семьей, у тещи до осени погостить. И лишь тогда, под самый охотничий сезон притащиться сюда. Но подвернулся я и спутал все карты. Откровенно говоря, Юлюс не слишком артачился, быстро согласился взять меня в тайгу, но с условием — оба будем строить новые зимовья в новых местах. Он уже давно присмотрел эти места. Подметил, что там и зверя побольше, и охота лучше. Добудем, значит, больше. Старые его охотничьи угодья тянулись вдоль реки километров на пятьдесят, но он выхлопотал к ним еще тридцать. На такой площади без новых сторожек не обойдешься. А одному такая работа не под силу. Вот он и взял меня в компаньоны, и мы задолго до начала сезона прибыли сюда.
Солнце печет как на экваторе. Жаль, термометры упакованы в каком-то ящике — поглядели бы, сколько. Но и без термометра ясно — за тридцать. Не Север, а знойный юг. Юлюс работает полуголый. Не обращает внимания на комаров, атакующих со всех сторон. Неописуемое терпение. На теле его сохранился прошлогодний загар. Под смуглой кожей подрагивают сплетения мышц, и кажется, будто весь он свит из крепких, тугих канатов. Я смотрю, как он трудится, любуюсь красотой безупречного человеческого тела, а сам думаю: где ты еще найдешь на земле такой край, чтобы чувствовать себя властелином необъятных просторов, и ни копейки, ни цента при этом не уплатив? Занятно было бы подсчитать, сколько квадратных километров составляют теперь угодья Юлюса. По реке они тянутся восемьдесят километров, а вширь — сколько душе угодно, сколько обойдешь. На земном шаре нашлось бы не одно государство, способное позавидовать такой территории.
Помогать Юлюсу я не могу, так как ничего не умею. А торчать рядом — какой толк? Он и сам гонит меня прочь. Может, ему будет удобнее, может, спокойнее, если не будет этого нацеленного постороннего глаза? «Ладно уж, — говорит он. — Чингу попробуй натаскать. И ружье непременно захвати. Без ружья в тайгу и соваться не смей. Заруби себе на носу, — повторил он. — И далеко не бегай. Услышишь выстрел — поворачивай назад. Знай, что, стало быть, я управился и жду тебя».
И мы с Чингой ушли. Вернее, я выволок ее за поводок, поскольку на мои команды она и ухом не вела. Смотрела на хозяина и никак не могла взять в толк, что от нее требуется. Пришлось надеть ошейник и пристегнуть поводок. Плелась она неохотно, все оглядывалась назад, на Чака, который с тихим скулением носился от нас к хозяину, виляя хвостом, словно уговаривая Юлюса побросать железяки и вместе отправиться в тайгу. Но Юлюс строго отдал команду, и пришлось Чаку улечься на береговую гальку: порядок есть порядок. А инстинкт звал его в тайгу, туда, где звери, где обилие запахов, от которых кругом идет песья голова. И бедняга Чак вздрагивал, порой даже подскакивал на месте, словно лежал не на гладких камнях, а на кишащей муравьиной куче.
Тайга здесь какая-то квелая, что ли. Ничего удивительного — полярный круг. На карте именно здесь и проходит линия полярного круга. Только у самой реки я заметил цепочку берез, куцый ольшаничек да пятачок пригнутого тальника, занесенного илом половодья. А тут, подальше от реки, сплошная лиственница. Но и она здесь какая-то невзрачная: ветви редкие и короткие, словно обрубленные. Стволы, правда, и мощные, и ввысь тянутся. Кора на деревьях рыжая и заскорузлая, а тонкий верхний пласт легко слущивается и дрожит от малейшего ветерка. По незнанью можно и за сосну принять. Но сосну здесь нипочем не найдешь, хоть вдоль-поперек исходи всю местность. Дальше, к югу, стеной стоит тайга, там и кедры, и сосны, а здесь, насколько хватает глаз, одна лиственница. В низинках — черемуховые дебри, сквозь которые не пробьешься, то и дело спотыкаешься, ветки цепляются за одежду, запутывается поводок. Приходится Чингу отпустить. Она встряхивается всей своей косматой шкурой, какой-то миг стоит, не зная, что предпринять — то ли со мной оставаться, то ли бежать назад, но все же остается и трусит впереди, тщательно обнюхивая все, что только попадается на пути. Лесная подстилка мягкая и пружинит, как губка. Ноги заплетаются в пышном черничнике, который уже отцвел и густо облеплен завязями ягод. Местами тянутся низкорослые островки брусники. Год выдался ягодный. А есть ягода — будет и соболь, так говорит Юлюс. Никогда раньше я и не думал, что этот хищный зверек бывает вегетарианцем. Не от хорошего, ясно, житья. Ел бы пес сало, да денег мало. Так и соболь… И вдруг из-под носа у Чинги выпорхнула куропатка. В нескольких шагах шлепнулась наземь, бежит по кочкам, волочит крыло, будто оно сломано. Уводит, хитрая, и меня, и Чингу подальше от выводка, рискуя угодить собаке в пасть. Инстинктом самосохранения такое не назовешь. Уж скорее — инстинкт самопожертвования. Дай бог всем людям обладать такими инстинктами… Самка терпела до последнего мига и детишкам не давала ни пискнуть, ни шелохнуться. Но Чинга учуяла затаившуюся семейку и двинулась прямиком в ту сторону. Сколько можно таиться! И хлынули птенцы, даже меня напугали. Куропчата — пташки мелкие, вроде воробьят. И серые. Мамаша в летнем одеянье — клок белый, клок бурый. К зиме и она сама, и детишки наденут белое оперенье, тогда не отличишь, где сугроб, а где куропатки. Одни черные точечки глаз и выдадут. Чинга смотрит на меня, будто спрашивает: что станем делать, человек? Я подзываю собаку и круто поворачиваю в другую сторону, хочу обойти полукругом притихших куропчат. Пусть живут. Но у Чинги, судя по всему, свое мнение на этот счет. И совершенно противоположное моему. Она все стоит, повернув ко мне голову, а в глазах — упрек: послал бог лакомый кусочек, а ты от него уходишь… Но я вытерплю и собачье презрение, и собственный стыд и настою на своем. Уйду. Чинга еще сомневается, но потом встряхивает головой и бежит следом, однако вид недовольный: и зачем ружье тащишь, чудак-человек, если такой совестливый… Я вдруг вспомнил, что ружье не заряжено. Спасибо тебе, Чинга, напомнила. В правый ствол закладываю жакан, левый заряжаю крупной дробью. Мы подходим к подножью горы и идем, огибая его, поскольку взбираться на гору нет ни желания, ни времени: в любой момент может грянуть выстрел Юлюса. Под горой торчат замшелые глыбы скал, нагромождения камней, через которые приходится перешагивать, точно через высокий порог. Пот с меня льет ручьями. В кронах деревьев шелестит кое-какой ветерок, а здесь, внизу, под густым пологом леса — ни малейшего дуновения. Духота как в бане. Пот смыл защитную мазь, и комары с упоением накидываются на незащищенные участки кожи. Дождались, упыри, своего часа. Бредешь, точно сквозь дымовую завесу — такое их тут множество. Тучами кидаются на голову, на руки, шею, набиваются в рот, ноздри, даже в глаза. Чинга и та начала чихать. Хвост, обычно закрученный бубликом, теперь яростно мотается из стороны в сторону, но не так-то просто отбиться от нашествия кровососов. Надо убираться поближе к воде, к открытому месту, туда, где ветерок… Только успеваю об этом подумать, как внезапно сбоку словно доска треснула — с шумом взлетел глухарь. Я и ружья поднять не успел. Но глухарь далеко не летит. Слышу, как он громко хлопает крыльями, опускаясь где-то на ветку. И Чинга заливается звонким лаем. Совсем близко и все на одном месте. Значит, посадила птицу, как выражаются охотники, и теперь держит, ждет, когда я подоспею. Но я знаю, что спешить нечего. Надо скрадывать, подбираться осторожно, главное — бесшумно. Я медленно приближаюсь, хоронясь за деревьями, осторожно переставляя ноги. Долго ли вспугнуть чуткую птицу! Снимется — и ищи ветра в поле. А вот и он, отшельник густого бора. Сидит на ветке и, свесив клюв, уставился вниз, на Чингу, которая лает, задрав морду. Со стороны похоже, будто собака с птицей пробуют сговориться. Как знать, вдруг они понимают один другого? И в этот миг слышу, как на реке гремит выстрел, а эхо повторяет его у горы. Глухарь даже голову поднял. По-моему, он даже присел, будто собирался оттолкнуться. Однако я его опередил: грянул выстрел, и птицу словно ветром сдуло с ветки. Она грузно и, как мне казалось, долго падала на землю, задевая за лиственничные ветви, а безжизненные крылья болтались, как тряпки, пока глухарь наконец гулко стукнулся оземь. Чинга подлетела к птице, вцепилась в горло и принялась мотать из стороны в сторону, а я смотрел, как летели перья, и тихо ликовал. Я думал, Юлюс обрадуется моей удаче, но он не проявил никакого восторга. Смотрел на глухаря, качал головой, а потом поднял на меня свои голубые глаза, и я прочел в них не то удивление, не то укор. Я-то от счастья не мог устоять на месте, был готов хоть колесом пройтись, а он и не улыбнулся. Наоборот, мне показалось, по его лицу скользнула едва заметная гримаса неудовольствия. Я спросил, плохо ли это, что я добыл глухаря, и он напрямик подтвердил: да, плохо. И прочел небольшое наставленьице. Ему вовсе не по душе такие люди: очутились в тайге, шляются с ружьем и палят направо и налево, разя все живое. Будто живут лишь сегодняшним днем и совсем не думают о завтрашнем, словно намерены никогда больше в эти края не возвращаться. А ведь места эти — наши с ним владения. Все, что обитает на этом участке тайги, зависит от нашей милости или немилости. Неужели мы хотим, чтобы все повымерло вокруг? Ведь нам тут жить не день и не два, а что до него, Юлюса, то ему тут еще немало лет промышлять. Зачем убивать ради меткого выстрела? Разве нам есть нечего, с голоду помираем? Вторая часть поучения была посвящена тому, как, когда и где брать зверя или птицу. Ну, птицу, положим, можно подстрелить где получится. Весу в ней немного, уложишь в рюкзак и несешь. А зверя надо стрелять с умом. Какой толк, если уложишь сохатого километрах в двадцати или даже десяти от зимовья? Попробуй донеси тушу. С неделю придется перетаскивать. А за неделю мясо и протухнет. И вообще летом, когда жарко, лучше не стрелять ни лосей, ни оленей. Все равно большая часть мяса пропадет. Даже осенью, когда начинает холодать, лучше всего такую добычу подстеречь у реки, а самое удобное — прямо у воды. Погрузил на моторку и свободно доставляешь к зимовью. Даже тяжелую шкуру, даже развесистые рога… Но учти, лося надо бить насмерть. Если с первого или со второго выстрела не уложил — плохо твое дело. Лось-подранок не одного охотника растоптал. Здешний народ как говорит — идешь на медведя, заказывай койку в больнице, на сохатого идешь, гроб заказывай… Эта своеобразная лекция меня словно холодной водой окатила. Я-то думал, в тайге поохочусь в свое удовольствие, а оказывается, и тут не все можно себе позволить. Какого же дьявола тащился я сюда, на край света? Однако Юлюсу я своей досады не показываю. Поживем — увидим.