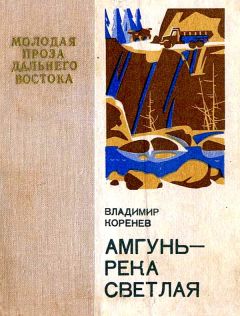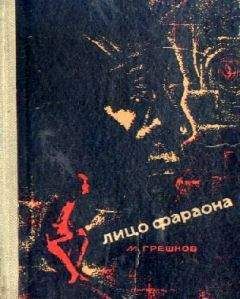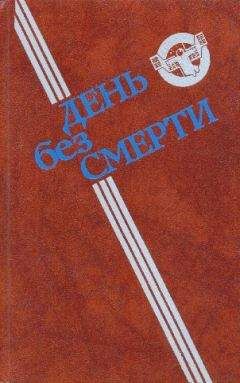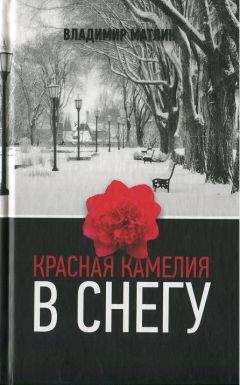Владимир Вещунов - Дикий селезень. Сиротская зима (повести)
По вагону, звякая бутылками, беспрестанно бегали счастливые выпивохи. Раз пять туда и обратно прошаркал с мешком испуганный небритый старик, боязливо высматривая, нет ли свободного местечка. За ним, нагло глядя людям в глаза, неотступно следовали двое блатных. Люди отводили глаза в сторону: а вдруг и к ним пристанут эти двое. Их тут наверняка целая шайка. Лучше не связываться.
Когда эти двое с морожеными глазами проходили мимо, я весь холодел, прижимался к матери, прятал голову у нее под мышкой. Мне казалось, что это не люди, а оборотни, о которых рассказывала бабка Лампея. Что вот сейчас они ударятся об пол и побегут клыкастыми свиньями по вагонам, кусая и пожирая людей. Эх, был бы я Ильей Муромцем, я бы показал оборотням кузькину мать. Обрубил бы им руки и вышвырнул из поезда. Дяденька в плаще что-то ждет. Наверно, боится напугать пассажиров.
Человек в плаще поднялся, достал из серебряного портсигара папиросу, помял ее, продул и, попросив соседа посторожить место, вышел в тамбур.
Он вернулся через полчаса, посидел посмотрел в окно и вдруг сам предложил парню сыграть в двадцать одно. Тот оторопело перетасовал карты, попросил партнера снять колоду, поплевал на пальцы и быстро раздал по карте.
Взъерошенный был обыкновенный начинающий шулер. Видно, ему не терпелось закрепить свой недавний успех. Ни крапленые карты, ни ловкость рук сейчас не помогли. То недобор, то перебор. Зато человек в плаще спокойно открывал двадцать одно и, брезгливо оттопырив мизинец, забирал червонец.
Шулер не выдержал:
— Хорэ! Хватит с меня. Все, нет больше денег! — провизжал он и стал запихивать за пазуху колоду.
Мужчина перехватил его руку, забрал карты, потасовал, нашел четыре крапленых с дырками и аккуратно разорвал их пополам. Наклонившись к взъерошенному, он что-то прошептал ему на ухо и отдал колоду.
Немного погодя неудачливый картежник засобирался к выходу.
Человек в плаще опять вышел покурить и вернулся с целым и невредимым дедом-мешочником и показал ему на свободное место.
Старик нараскоряку встал посреди прохода, скинул мешок на пол, снял треух и поклонился:
— Шпашибо, люди добрые. Шпашибо, мил щеловек, — он прижал землистую руку к сердцу и поклонился мужчине в черном плаще.
Люди застыдились, и кто-то пообещал себе не оставлять ближнего в беде, а действовать сообща, всем вместе, всем миром.
Спрятавшись за мать, я почти не мигая смотрел на загадочного мужчину, который никого не боится, всех сильнее и все может. Мне захотелось, чтобы дяденька хоть разочек взглянул на меня. Я высунулся из-за матери, испугался и снова спрятался: вдруг дяденька и на самом деле посмотрит, и тогда мне будет стыдно. Нет, будет не только стыдно, но и хорошо. И смотреть надо не таясь, а прямо, а то что мужчина подумает? Скажет, трус какой-то.
Я выглянул из-за матери и долго и смело смотрел на человека в плаще.
Тот или увидел в окне мое отражение, или почувствовал на себе мой взгляд, но повернул ко мне суровое, неподвижное лицо, улыбнулся одними глазами и по-свойски подмигнул.
Я счастливо застеснялся и снова спрятался.
Из тамбура вкрадчиво проникли в вагон звуки аккордеона.
Вошел слепой. Одно бельмо его отливало синевой. Из гнойного уголка глаза, затянутого красным бельмом, вытекала сукровица и густела в толстую каплю. Слепой был с немецким аккордеоном, который переливался зеленым перламутром и высверкивал хромированными решетками.
Сзади за хлястик распахнутой шинели держалась похожая на монашку маленькая красноглазая женщина-поводырь.
Поезд огибал небольшое озеро — вагоны дергались из стороны в сторону. Озеро кончилось — женщина потянула спутника за хлястик. Слепой снял пилотку и отдал спутнице. Шаркая левой ногой и приставляя к ней правую, слепой двинулся вперед и загнусавил самодельную жалостную песню:
Сирота я, слепой сиротинка.
Люди добрые кормят меня.
Доживу я, несчастный, в потемках
До веселого смертного дня.
Дорогие братья и сестры, матери и отцы, не откажите слепому калеке, опаленному войной, в хлебе насущном, — монотонно, нараспев проговорил певец. И с надрывом вместе с поводыршей повторил:
Доживу я, несчастный, в потемках
До веселого смертного дня.
В пилотку посыпалась мелочь, кто-то бросил мятый рубль. Женщина как заводная кланялась, крестилась и благодарила:
— Спаси боже вас. Спаси господи вас.
И фашистского гада я стрельнул —
Труп с горы покатился его,
Но глаза мне войной опалило —
Я не вижу с тех пор ничего, —
закончил куплет слепой и снова обратился к братьям и сестрам.
Я заранее взял у матери денежку и с нетерпением ждал, когда певцы подойдут поближе. До боли сжав в кулачке монету, я покраснел и робко подошел к пилотке с ржавой дыркой от звездочки. Разжал кулачок и стеснительно уткнулся в колени матери.
Человек в плаще, разгладив на столике синюю пятерку, аккуратно положил ее в пилотку.
Старик долго шарил по карманам, рылся за пазухой и, еще раз похлопав себя, виновато развел руками:
— Простите, люди добрые, ни копья нетути.
Надо мною кружит черный ворон.
Мать сыночка родимая ждет.
Где умру я, никто не узнает,
Лишь соловушка песню споет, —
закончил в конце вагона слепой.
Мать прослезилась, скомкала платочек, тихонько в него высморкалась и виновато улыбнулась. Извините, мол, за женскую слабость.
Мне тоже хотелось плакать, но я сдержался.
— И куды это вше народ едет и едет. Я вот к шыну, а оштальные куды? — вдруг некстати прошепелявил старик, но ему никто не ответил.
Человек в плаще, вспомнив обо мне, стал украдкой разглядывать меня.
Вот сейчас я гляжу взрослыми глазами памяти своей на себя самого, пятилетнего деревенского пацанчика, и будто слышу внутренний голос человека в черном плаще: «Какой странный малыш, — думается ему, — глядишь на него, и почему-то вспоминается лес, речка, луг, и хочется быть добрее, лучше, проще. И охватывает беспокойство за его судьбу, и хочется защитить этого мальчика, похожего на утенка, от невзгод. А их, судя по всему, на его долю выпадет немало. Глаза его полны ожидания добра и только добра. Хватит ли его у людей, с которыми ему доведется встретиться в жизни…»
Просветленно, по-отечески мужчина посмотрел прямо на меня и поманил к себе пальцем:
— Толя, иди ко мне.
Меня не очень удивило то, что он знал мое имя. Хотя я уже присмотрелся к нему, но он по-прежнему был для меня загадочным.
Ожидая какого-то чуда, я доверчиво подошел к нему.
— Ну, герой, когда вырастешь, кем будешь? — Мужчина легонько потряс меня за плечи.
Вообще-то я знал, что надо отвечать в таких случаях: шофером или летчиком. Но тут сказал по-своему:
— Дяденькой… — Я постеснялся добавить «как вы».
— Мда-а. — Мужчина достал записную книжку, самописку, что-то написал, вырвал листок и протянул его матери. — Отца нет — не беда, это, может, и к лучшему. Возьмите мой адрес. Если что, пишите, приезжайте. Рад буду помочь Толику.
Мать суетливо положила бумажку в отвислый карман кофты, притянула меня к себе и стала гладить жесткие короткие волосы.
Старик-мешочник и две женщины враз тяжело вздохнули, с завистью посмотрели на мать и стали разглядывать меня. Пацан как пацан. Весь в конопушках. Головастенький, глазенки серьезные. Ничего особенного. Как все дети. И что этот в плаще в нем выкопал? Видать, важная птица, этот мужчина. Столичный поди.
Человек в плаще еще что-то записал; затем все враз засобирались на выход. Приближался Свердловск.
Больше я не встречался с человеком в черном плаще, но время от времени думаю о нем. Особенно часто вспоминал я его в трудные свои времена, когда еще нетвердо стоял на земле. Порою приходилось так туго, хоть криком кричи, жить не хотелось. И я уповал на этого человека. Мне казалось, стоит захотеть, и он придет на помощь. От таких мыслей, однако, откуда-то брались во мне силы, и я одолевал невзгоды сам.
Теперь, когда я крепко стою на своих ногах, мне кажется, что мой хранитель стал судьей моим. Он выделил меня тогда, словно предрек иное будущее, а я, ничем непримечательный человек, не оправдываю его надежд. А он все ждет и ждет. И мне очень хочется сделать что-то такое, чтобы порадовать его.
Укачалка
Я перестал укачивать себя в четвертом классе. Представьте, лежит подросток в кровати, плотно зажав ладонями уши, и качается, качается… Экое диво. И самому мне было ужасно стыдно за свою укачалку. Такой большой — и на тебе…
Появилась эта привычка внезапно, сама собой.
Зажмите уши, и вы услышите шум. Это шумит кровь. Когда же в большом мире, вне нас что-то не так, кровь клокочет в наших жилах. И успокоить ее стоит больших трудов.