Лев Правдин - Ответственность
— Теперь у нас Никита Хрущев. Ты это тоже учти.
— Сталин — создатель, а этот разрушитель созданного.
— Как же ты разрушителю-то служишь?
— Я партии служу. Кого она допустит до власти, тому и служу.
— А знаешь, как такой человек называется? — спросил бухгалтер, скосив на своего начальника ехидно прищуренный глаз.
— То, что положено знать, я знаю, а чего не знаю, того, стало быть, нам и знать не надо.
Привыкший к жалобам своего начальника на новую жизнь, бухгалтер только изредка вставлял замечания, довольно ехидные.
— Так ты кого жалеешь-то: Иосифа Виссарионовича или самого себя? И кого защищаешь? Не пойму я что-то.
— Сталина я защищаю, — со всей простотой скудного своего ума и в то же время с твердой убежденностью отвечал начхоз. — Память о нем, о его исторических делах…
— А от кого защищаешь? — снова спросил бухгалтер. И оттого, что начхоз очень долго не отвечал, собираясь с мыслями, бухгалтер сам же и ответил:
— Себя ты защищаешь, свои интересы. Сталиным только прикрываешься. — Бухгалтер засмеялся, широко раскрывая свой «экскаватор», отчего смех получился гулкий, как из бочки. — Сталина ты боялся, как черта…
Такой вот интересный разговор невольно подслушал Сеня, лежа на своей жестковатой постели. Белая ночь захлестнула комнату опаловой мглой или опаловым светом, что в данном случае было одно и то же.
В своем письме к маме он описал, как одно из примечательных событий, появление таежного вещуна — черного ворона, «который, в чем все тут у нас уверены, „накликал“ пожар, и сгорел портрет высотою с трехэтажный дом. Пожар, от которого никто не пострадал. Никого не огорчило это событие, только укрепило надежды на лучшие времена».
Так он думал, когда писал письмо, и только сейчас, услыхав за переборкой нетрезвые голоса, с некоторым удивлением почувствовал всю непрочность этой, как он думал, всеобщей уверенности. Есть, оказывается, «огорченные», оплакивающие прошлое. И они не просто огорчены, они озлоблены и готовы бороться за свои утраченные привилегии. Больше-то, кажется, не за что. Как понял Сеня, прислушиваясь к пьяному разговору, вся их ностальгия но прошлому примитивна и умещается в одном чемодане, где хранятся все их мечты в виде мундира и должностного оклада. Но ведь известно: чем глупее враг и чем примитивнее его запросы, тем он опаснее.
Совершенно неожиданно для себя Сеня подумал о Бакшине. Он и сам не знал, как это получилось. Что может быть общего между Бахтиным и вот этим, что бубнит за стенкой о своих утраченных надеждах? И чем больше он об этом думал, тем ближе в его воображении сближались эти два человека из недавнего прошлого. Вот, наверное, только в этом вся их схожесть и заключается: в прошлом — в одно время росли, состояли в одной партии, питались одними идеями, исповедовали одну веру в единого бога. Только один из них умный, а другой дурак. Каждый по-своему, в меру своего ума и возможностей, принял новую эпоху, которая так стремительно ворвалась и перевернула всю их жизнь.
И вот тут-то, как подумал Сеня, и обнаружилось то сходное, с которым оба они — и дурак и умный — вступили в новую жизнь. Сходство это чисто внешнее: Бакшин — прославленный строитель, высокого полета и высоких замыслов, и — этот полуграмотный, способный только выполнять чужие приказы.
Так старался Сеня разбить нелепые сравнения, которые сам же и нагородил. Что знает он о Бакшине? Несколько дней, прожитые рядом с ним, создают только внешний образ командира-строителя, сильного, могучего, как Атлант, поднимающего на своих плечах неимоверную тяжесть. Когда-то этот образ очень воодушевил Сеню и продолжает воодушевлять до сих пор. Когда в трудную минуту ему требуется поддержка, он ищет ее именно в этих своих юношеских впечатлениях.
А сейчас совсем не то надо — не сила, не «обаяние долга» или «обаяние приказа», как когда-то писала мама о своем командире.
Потом, после тюрьмы и лагеря, она уже ничего такого воодушевляющего не говорила о Бакшине. Ничего, ни хорошего, ни плохого, как о мертвом… Как о том, кого уже нет…
В это время трудные Сенины раздумья были грубо прерваны: дрогнула переборка от гулкого хохота, и глухо, словно из бочки, голоса:
— Да не оглядывайся ты!.. — с пьяным отчаянным воодушевлением орал бухгалтер. — Жизнь-то, она какая? Жизнь наша отчаянно бойкая. Она вон как скачет! А ты чего?..
— Куда это, куда это? — закудахтал начхоз. — Кто это скачет?
— Да все, и ты тоже. Только сидишь ты не как все. Ты мордой к хвосту. Лошадь тебя вперед несет, а ты все назад глядишь, как там… А там чего тебе видать? Лошадиная задница, да пыль из-под копыт… Тушенку сожрал, теперь из банки цветочки нюхаешь…
Сеня поднялся. Уснуть теперь все равно не дадут. Можно, конечно, призвать к порядку разгулявшихся соседей, А разгулявшиеся мысли? Их-то не заставишь замолчать.
Он оделся и вышел из барака.
Его появление очень обрадовало комаров, так, что он пожалел, что не взял накомарника, но возвращаться в барак не хотелось, и он поспешил добраться до вырубки. Здесь всегда от реки тянет прохладой, и ветер, даже самый легкий, разгоняет комариные стаи.
Над рекой лениво колыхался густой туман. Над гребнями далеких заречных лесов слегка потеплело бледное холодное небо. Скоро утро. Постояв немного на высоком берегу, Сеня продрог и пошел, но не домой, а в административный барак, где ему никто не помешает хоть немного вздремнуть перед работой. Он свернул к проходной.
Здесь еще резко пахло дымом от недавнего пожара. Какая-то серая тень, неясная и расплывчатая, как призрак, проплыла над пожарищем и двинулась к Сене. Он никогда еще не имел никаких дел с призраками, поэтому не верил в их существование и с интересом смотрел, как тот материализуется по мере приближения. В конце концов Сеня узнал того самого «чокнутого», который тогда первым сообщил Сене о смерти Сталина. Учетчик с первого участка. Приблизившись к Сене вплотную, он конспиративно, как заговорщик, спросил:
— К нему? — При сумеречном свете его темное лицо казалось совсем черным, на щеках седоватая щетинка. Глаза пронзительно вспыхнули и погасли, будто провалились в глубокие глазницы. Оттого, что он долго бродил по тайге, одежда на нем отсырела и пропахла болотом и дымом.
— К кому? — тоже спросил Сеня, стараясь отодвинуться от учетчика. Но тот словно прилип, прижался еще плотнее и горячо прошептал в Сенино ухо:
— Черный ворон.
— При чем тут ворон?
— Тихо, — учетчик отшатнулся и предостерегающе поднял палец, ворон… посланец от него… особое поручение… Понятно?
— Все понятно, — заверил Сеня, хотя пока понял только то, что перед ним не просто чокнутый, а, кажется, вполне сумасшедший, получивший какое-то поручение от «него».
— Я люблю его. Очень люблю, — почему-то жалостливо сообщил учетчик. — Ему тут холодно стоять одному. Вот и прислал… Поручил.
— Вот теперь все понятно: оказывается, вы спалили своего самого любимого, — сказал Сеня, а сам подумал, что надо немедленно пристроить этого чокнутого приверженца Сталина в больницу или в милицию. Нельзя его оставить без присмотра, мало ли что еще взбредет ему в башку. Решил, что в больницу будет правильнее — человек все-таки, хотя вряд ли можно вылечить человека, который свихнулся от любви к деспоту. Везет ему сегодня на таких: от одного ушел, так на другого налетел. Подхватив под руку сумасшедшего поджигателя, Сеня проговорил:
— Ну что ж, пошли.
— Куда? — рванулся учетчик.
— Ворон велел, — успокоил его Сеня, после чего учетчик притих и покорился.
СТИШОК НА ПРОЩАНИЕ
Только в конце июля Сене удалось вырваться в город. Обком комсомола, учитывая бедственное положение Бумстроя, начал мобилизацию молодежи на строительство. Сене как самому молодому инженеру поручили выступить на молодежном собрании, рассказать о строительстве.
Подходил к концу знойный день, когда Сеня сошел с парохода местной линии. Трамвая он ждать не стал, по опыту зная, что пешком доберется скорее. Дорожки-то до Камы все знакомые еще с мальчишеских лет. Он выбрал самую короткую: по узорной чугунной лестнице, звенящей при каждом шаге, он вбежал, как когда-то бегал, возвращаясь с купанья. Еще несколько минут по знакомым улицам, и вот его дом!
У себя в тайге Сеня отвык от городского зноя и духоты, от насыщенного пылью воздуха. Он снял пиджак, но все-таки слегка задохнулся, поднимаясь на третий этаж. Уверенный, что мама еще не пришла, открыл дверь своим ключом. В квартире было темно и тоже душно от того, что все окна закрыты шторами. Сеня включил свет в прихожей, позвонил в клинику. Мамы не оказалось в кабинете, наверное, она уже ушла и, значит, скоро явится.
Тогда он решил осуществить одну свою затаенную мечту — выкупаться в ванне. В тайге у них была баня, и неплохая, но разве ее можно сравнить с домашней ванной, где тебе никто не мешает, не стоит над душой в ожидании, когда ты освободишь таз или место на скамье. Ни с чем не сравнимая ванна и последовавший за ней душ необыкновенно его взбодрили. В маминой комнате стоял комод, средний ящик был отведен для его белья, пахнущего какими-то травами, напоминающими запах свежих яблок. Мама не употребляла духов, и Сеня привык считать, что белье и вообще все в комнате пахнет чистотой.



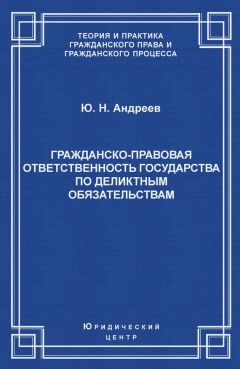
![Лев Гумилевский - Собачий переулок[Детективные романы и повесть]](/uploads/posts/books/152078/152078.jpg)