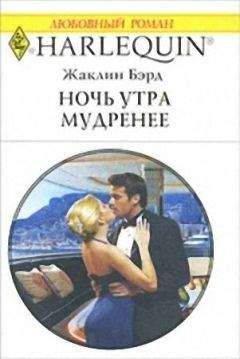Глеб Алёхин - Тайна дразнит разум
— Филя! Циркач! Мунька!
Гробовое молчание. Из узкой воронки пахнуло дымом: не табачным, а домашним — горелой лучиной. Я сел на рыхлый кирпичный цоколь и задумался.
Ребята промышляют ночью — значит, отсыпаются. Зловещая тишина настораживала. Вспомнился панический бег заведующего распределителем: за ним гнался шкет с ножом — Мамай имел три привода за такие «шалости».
Страх всегда вызывал у меня стыд, а последний толкал на смелый поступок. Я спустился в треугольный лаз и бутсами нащупал ступеньки деревянного примостка. Почему он не убран? То ли заманивают, то ли ушли купаться.
На каменном полу я осмотрелся. Мои глаза воспринимали только световой треугольник, падающий сверху. Но вот освоился: каморка имеет пролом в соседнее темное помещение. Белесая плесень поднималась по стене. Беглецы обжились в проходной…
Я осветил фонариком мятую солому, ветхое одеяло и «подушку» — трухлявое от моли драповое пальто. Вонючее барахлишко разворошил ногой. Обнаружилось: колода замусоленных карт, пятый выпуск «Пещеры Лейхтвейса», титульный лист с голубым штампом, вырванный из книги, и множество «чинариков», а в углу под мешковиной — бронзовый стержень с тонким концом.
Рассматривая загадочную находку, я напряг память. На Ленинградской улице в милицейском музее выставка холодного оружия и металлических инструментов, отмычек, воровских поделок. Но этот штырь не был столь острым, чтобы им колоть, и не был прочным, чтобы служить ломиком.
Когда-то Шерлок Холмс покорил меня: я мечтал заделаться первоклассным сыщиком, изучал преступный мир — местное ворье знал наперечет. Особенно базарных мазуриков: одни спецы по возам — «воздушники», другие по вырезке карманов — «писальщики», а третьи по магазинам — «городушники». Потом шли Знаменские гопники: они умели все, что и «мальки», но выступали еще в роли «домушников» и наводчиков для профессиональных воров.
Новгород часто навещали гастролеры по церковным ризницам — «храмушники»: одеты с иголочки, в руке блеск-чемоданчик, а в нем пилка, ножовка, фомка и флакончик кислоты для опробования сомнительного золота.
Однако бронзовая палочка в моей руке разожгла любопытство. Для чего она? Ее не просунешь в дверную щель, чтобы скинуть крючок, и дирижеру слишком тяжела.
Обошел остальные клети подвала: заметил сводчатые потолки и обгорелые лучины со свежим запахом дымка. Здесь явно кто-то осматривал старинное подземелье.
Более двух часов я ждал ребят. Они где-то застряли. А может быть, их спугнули? Ведь кто-то горящей лучиной освещал подвал?
Черт возьми, время ушло, а мне сегодня на очередное занятие литературного кружка. Редакция газеты «Звезда» организовала встречу с местным поэтом Василием Смеловым.
Вылезая через треугольное отверстие, я подумал о том, что образ трехчленки хуже геометрического треугольника: этот более наглядно передает три стороны противоречия — ведущую, ведомую и сводящую, а главное, линия переходит в другую, зримо показывая ход кругового развития.
Калугин говорит: линейное развитие переходит в круговое, а круговое в спиральное. Гибкий ум улавливает все три вида становления, а верхогляд схватывает лишь наивысшую стадию — спиральную, а тем самым нарушает принцип историзма.
Стоя возле руин, я через призму треугольника взглянул на ближайшую стену желтого дома и до смешного удивился: в окне второго этажа красовалась Роза Гершель.
Тут я сообразил, что пустырь примыкает к дому аптекаря, где длинный сарай преградил наступление чертополоха и крапивы. Я свистнул красотке и жестом вызвал ее на дворик, куда проник меж сараем и помойкой.
— Ты знаешь, под твоим окном «пещера Лейхтвейса»! — Я объяснил причину моего появления, ввел ее в курс розыска похитителей старинных книг и попросил: — Увидишь ребят — звони ко мне в техникум…
Роза слушала меня разинув рот: она и знать не знает, что рядом подземелье с древними сводами, что в нем устроили себе притон ночные промышлялы. Озадаченная, она взяла меня за рукав полосатой футболки:
— Лай-то слышала, да не придала значения. У нас кругом столько собак, кошек, крыс — жуть берет!
Пышка расправила пухлые плечики и через проходной коридор вывела меня на Московскую. По мостовой мчалась стайка велосипедистов в разноцветных майках. Спортсмен Чупятов, атлетического телосложения, махнул мне рукой:
— Салют, вратарь!
Я взмахнул бронзовым прутиком и снова озадачил Розу:
— Что за штуковина? В «пещере» нашел. Не аптекарская?
— Нет, не знаю, — смутилась она и радостно сообщила: — Додик, братишка, занялся историей Новгорода!
Надо же! Многие изучают нашу историю, гордятся своим рождением на здешней земле, а мы, истинно русские, подчас не чувствуем источника вдохновения, обходим Русскую дорогу и памятник Тысячелетию России. Почему так?!
Вспомнился краснобай Пучежский. Я припустил следом за велосипедистами. На литзанятие пришел раньше других. И рад!
Внештатный сотрудник газеты, начинающий поэт Саша Игнатов, хвастанул мне, что нашел развалины Великого Новгорода и придумал хлесткое заглавие «Тайна дома № 6».
«Вот кто спугнул воришек», — понял я и немедля помчался в Троицкую слободу. Там возле открытой калитки в тревожном ожидании стояла Анна Васильевна. В ее глазах испуг и надежда. Старушка с дрожью в голосе сказала:
— Сынок час назад ушел искупаться и не вернулся…
«ВЕЧЕРНИЙ СОЛОВЕЙ»Урок с Глебом и хлопоты с кирпичным заводом отвлекли Калугина от навязчивого желания послушать Берегиню. За день он умаялся и решил перед ужином освежиться.
Махнув матери коротким полотенцем, Калугин вышел к берегу Волхова. Над рекой нависла белесая мгла. Она напомнила счастливую ночь. То было во время новгородской ссылки.
Тогда вечером он впервые отправился на прогулку не один. Нет, он и раньше приглашал ее, но она никогда не выходила за порог флигеля, где ссыльные жили коммуной; да и в комнате беседовала с ним лишь за чтением Гегеля, активно обсуждая философские проблемы. А вне коммуны на свежем воздухе молодой революционер и сам забывал о НЕЙ: любовался звездами в одиночестве, хотя по-прежнему любил ЕЕ.
Однажды, открывая калитку в темень проулка, он почувствовал, что с ним ОНА, царица противоречий и чародейка любого развития.
Беззвучно шагая рядом, Невидимка взяла его под руку и жарко зашептала: «Милый друг, за твою преданность, за твою любовь ко мне не расстанусь с тобой до последней минуты. А сейчас начнем с малого, ибо в малом зачин великого».
И тут он реально ощутил, как левая нога перечит правой, как четная сторона улицы противостоит нечетной и как на мостовой встречные движения взаимоисключают друг друга. Окруженный полярностями и топча полярности, счастливчик вышел на полярные берега Волхова, над которым, как и сейчас, колыхалась белая тьма.
Резкий гудок парохода оборвал мысли. Историк прислушался: бодрый северик принес музыку с Веселой горки — струнный оркестр зашелся в ритме «Калинки».
«Скоро запоет Соловей», — рассчитал он и, скатав полотенце, сунул его в широкий карман толстовки. Удивительно, сегодня он взял на речку не большой, а малый ручник: значит, наперекор разуму, он бессознательно руководствовался инстинктом…
Кроны столетних деревьев прощаются с вечерней зорькой. Рядом с летним рестораном на земляной горке освещены подмостки эстрады. Там мелодично журчат домбры. Музыканты исполняют знаменитый Полонез Огинского.
По аллее, запорошенной тополиным цветом, идет участница концерта. От каждого маха длинной юбки вскипает белая пена. Крутобокая, осанистая, актриса вальяжно плывет в такт музыке. Светлая коса покоится на высокой груди, где, сверкая, позванивает трехрядное монисто. Малиновые сапожки с кисточками завершают русский наряд.
В радостном страхе Калугин, сидя на скамье, узнал в былинной волховянке Берегиню. К счастью, он не был замечен в тени большого куста и смог проводить глазами это чудное явление, пока «Вечернего соловья» не укрыли заросли сирени.
Но вот сердце унялось, и колыхнулись воспоминания о далекой северной ссылке. Прострел в пояснице приковал его к постели. Пожилая сестра милосердия (тоже ссыльная) массировала ему спину, устала, присела на кровать, а потом прилегла…
Постыдная связь без любви была недолговечной. С тех пор он не шел на сделку с совестью. А сердечные увлечения оборачивались унижением и досадой: он влюблялся в красивых женщин. Старый холостяк осуждал себя за такой неравный выбор, но ничего не мог с собой поделать: любит красоту во всем — в радуге, стремительном полете стрижа; в женском облике и даже в логических построениях.
На Веселой горке сменилась мелодия. Трио баянистов вкрадчиво выманивали «Соловья» Алябьева. Николай Николаевич приготовился услышать колоратурное сопрано, а защелкал соловей!