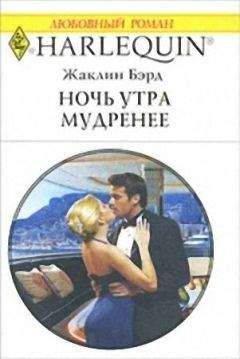Глеб Алёхин - Тайна дразнит разум
Восторг краеведа перед балалайкой Фома истолковал по-своему:
— Что мне соха, была б балалайка, говорят на деревне, да и городские часто наяривают. Вот хотя бы мой сынок: в Москве большой человек, а приедет — кнутом не отгонишь!
— Заметь, голубчик, трем струнам доступен любой мотив, — сказал Калугин и ушел в мечту: «Вот бы научиться до виртуозности играть на трех „струнах“ противоречия!»
И, возвращаясь в центр города, он мысленно настроил инструмент познания на свой лад: прима-струна — ведущая, секунда-струна — ведомая, а меди-струна — средне-сводящая. Выходит: мягкая жесткость, гибкая стойкость и податливая крепость — не игра слов, а животворная сила роста.
Вот телега, утыканная палками. На ней крестьянин, по всему видно, середняк. Русское середнячество, с одной стороны, пополняет ряды бедняков, а с другой — кулаков. Но зиновьевцы все еще играют на двухструнной балалайке: они четко различают лишь левое и правое, лишь батрака и бая, обходя середняка, нашего союзника. Так узко понятое классовое противоречие ведет к политической узости, к вредному уклону. Ныне без диалектики ни туда ни сюда.
Шагая по Московской улице, он вспомнил, как здесь на масленую неделю лихо мчались тройки, звенели бубенцы, колокольчики, тальянки; а прямо на тротуаре полыхали жаровни с румяными блинами. Выбирай — с вареньем, шкварками, сметаной, кипящим маслом. И тут же крепкий ароматный чай и задорные частушки.
Тогда Коля, гимназист, стоя в сторонке, с трудом сдерживал слезы. В кармане ни гроша. Хозяин комнаты — выходец из немецкой колонии — не признавал русских праздников, а родители жили в глухом лесничестве Новгородчины. Зато немец разговаривал с юным квартирантом лишь по-немецки. Вот уж верно: нет худа без добра — теперь Калугин читал Гегеля в подлиннике.
Афиша струнного оркестра увела мысли историка в Летний сад. На Веселой горке поет «Вечерний соловей». А в свободное время проявляет чрезвычайный интерес к золотой модели, к золотым коронкам и золотым рублям Морозова. К чему ей золото? На ней ни одной золотинки: ни брошки, ни колечка, ни серег, одни часики. Накопительство? Пересылка за границу к родителю? Ей не трудно передать сверток одному из участников автопробега. Инструкция гласит: «Ценности конфискуются только в момент спекулятивной сделки и хищения из музея. Обыск строго запрещен». Оно и понятно: международный автопробег — массовый приезд зарубежных гостей в СССР. Плохой прием — пища для желтой прессы.
Еще вопрос: какой запас золота у Алхимика? Как он поведет себя в день прибытия иностранцев? И какова роль Берегини? Она помогает ему или, наоборот, охотится за его кладом? И в чьих интересах: личных или государственных? И наконец, как увязать ее сомнительное поведение с ее увлеченностью тайной Тысячелетия, с ее мечтой защитить интересы женщин и с ее синим взором, полным благородства?
Вдруг он поймал себя на том, что сам себе противоречит: стремится не думать о ней и в то же время постоянно вспоминает ее; смущается от ее красоты и тут же дерзит ей; хочет пойти на концерт и одновременно отговаривает себя. Нет, нет, надо послушать ее песни: нет ли фальши…
Сейчас занятие с учеником. Все эти дни учитель искал наглядный образ триединого противоречия. Однако ни «Троица» Рублева, ни безмен, ни балалайка не затронут Глеба. В Древней Греции Гераклит успешно иллюстрировал диалектику примерами из природы. Не взять ли символом противоречия новгородский пейзаж, ибо наглядность — первый шаг к абстрактному мышлению?
ПОЮЩИЙ ПАМЯТНИКИз Антонова в город, как всегда, бежал: сегодня у меня занятие с учителем. Домашнее задание я выполнил — нашел наглядную трехчленку, но агентурное поручение смазал. Осмотр здания книгохранилища ничего не прояснил. Замки и печати не тронуты. Да и устная разведка лишь больше озадачила. Местная малышня из приемника-распределителя только обедала и спала под казенной крышей; остальное время слонялась по ярмарке, где чистила чужие карманы и корзинки.
Мои друзья из Дома юношества выяснили лишь одно: утром антоновские воришки ничего из монастыря не выносили. А кто же снабжает торговку книгами с семинарскими штампами?
В свои заботы Розу я не посвящал, хотя посматривал на нее, а не на кружку с сургучной печатью и четкой красной надписью «НА ПОМОЩЬ МОПРу». Гершель, общественницу, выдвинул комсомол, а я в роли охранника оказался по милости Воркуна. Губернский отдел ГПУ — шеф нашей команды «Динамо». Иван Матвеевич, зная меня еще по Старой Руссе, подошел к моим воротам и, словно по мячу ударил, бухнул: «Глебуха, хватит баклуши бить!»
С Розой мы встретились у памятника Тысячелетия. Она, опередив меня, сосредоточенно глядела на гигантскую статую Петра I, на плечах которого эполетами серебрился тополиный пух.
— Послушай, — шепнула она, глазами указывая на памятник.
Я не прислушался, а вгляделся: Роза вырядилась и совсем не походила на комсомольскую активистку. На ней голубая блузка с белым бантиком, черная юбочка выше колен, модельные лодочки на тонких каблуках, и «визитная карточка» не кимовский значок, а золотые серьги, похожие на спелые вишенки. Из-за этой красы ее чуть было не исключили из Союза молодежи. Вступился Калугин. Роза посещала краеведческий кружок, организованный при музее. Она сотрудник губархива, но архивного в ней ничего — пухленькая, румяная, с глазками-маслинами и кудряшками на лбу. Словом, пышка!
Все из семьи Гершелей обладали идеальным слухом. И все они играли на музыкальных инструментах. В домашнем оркестре Роза вела партию флейты. И неудивительно, что сейчас она уловила тихий загадочный звук, исходящий от монумента, как будто бронзовый шар разнялся большой морской раковиной и протяжно гудит. Гершель сказала:
— Это ветерок-проказник.
— Тут и раньше ветрило, однако памятник помалкивал, — возразил я, невольно вспомнив слова антоновского богослужителя: «На амвоне Руси плачет и стонет страдалица Марфа Посадница».
Странный звук исходил не от Марфы, а от Петра I: фигура последнего возвышалась прямо над Борецкой, но царь держал в руке скипетр, а не дудку…
— Что за фокус, Роза?
Не зная, что ответить, она заговорила о своем отце:
— Папа точно знает: при закладке этого памятника под фундамент опустили цинковый ящик с монетами девятнадцатого века.
Роза приходилась мне родственницей: мой дядя женился на ее старшей сестре, и я кое-что знал о самом Гершеле, аптекаре:
— Твой отец скупает старинные монеты?
— Для своего брата, ленинградского нумизмата.
Хотелось уточнить, почему Роза никогда не вспоминала про родного дядю, но она в это время бросилась к прохожему:
— Пожалуйста, не откажите! — и бренькнула кружкой с медяками.
Длинноволосый, носатый незнакомец в черной бархатной блузе, с бантом на груди, прочел надпись на кружке и смутился:
— Позвольте представиться: юморист Фукс. Приезжий. Пока безработный. Извините. — Он пожертвовал пятак и длинный палец согнул вопросительным знаком: — Молодые люди, в каком российском городе впервые увековечены в бронзе Пушкин и Лермонтов?
Мы с Розой беспомощно переглянулись. А назидательный палец Фукса как бы отделил от пьедестала фигуры великих поэтов:
— Хвала вам, новгородцы! — воскликнул он и мигом скрылся в толпе прохожих (широкоплитная панель почти примыкала к памятнику).
— Видела его в папиной аптеке, — опомнилась Роза и взяла меня за полосатую футболку (такая уж привычка у нее): — Скажи, Глеб, Николай Николаевич как репетитор брал с тебя деньги?
— Учит бесплатно.
— Почему? — надула она яркие щеки. — Он вам родня?
— Нет. — Я рассказал о нашем знакомстве на футбольном поле, куда тот приходил изучать спортивные ритмы: — Я признался Калугину: «Нас два брата: один умный, а другой футболист». Он улыбнулся и пригласил меня на рыбалку. Там-то, у костра за ухой, я и прирос к нему: он же бездетный…
— А мне запали в душу его слова, сказанные на занятии краеведческого кружка: «Где бы ты ни родился, где бы ни жил, если ты русский, твой долг поклониться героям восемнадцатого века — Пскову и Великому Новгороду: они спасли замечательную культуру от вражьего огня. Не вся Русь погорела, не всюду властвовал хан, был край и без татарщины. Здесь воздвигались храмы, дворцы, велась летопись, слагались былины; здесь во времена ига родину славили ратными делами (смяли ливонских рыцарей) и подняли на щит вольность, родной язык и стратегический ум русского народа».
Роза закончила с печалью в голосе:
— Я здесь родилась. Горжусь Новгородом. Люблю родину, Россию, а папа заставляет меня учить язык, чуждый мне: я не хожу в синагогу…
Она метнула взгляд на фигуру ангела-хранителя Петра I. Из его бронзового крыла выпорхнул воробей. Оказывается, металлический шов лопнул, а в полости образовалась гудящая раковина. Мне вспомнились бредни обывателей.