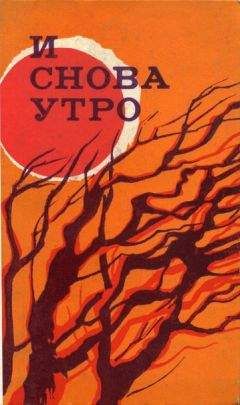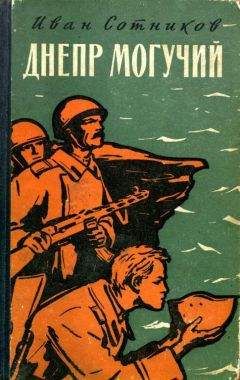Иван Сотников - Свет всему свету
На пути к Остраве полк занял горное селение. Возле него немцами был создан концентрационный лагерь. Заключенных привезли строить укрепления. Пробившись к лагерю, солдаты на миг застыли. Сотни людей облепили колючий забор и повисли на проволоке, вцепившись в нее руками. Широко раскрытые глаза их выражали смесь самых противоречивых чувств: оцепенение и порыв, еще неугасший испуг и бьющую ключом радость. Секунда-другая — и мертвую тишину взрывают крики разноязычной тысячеустой толпы:
— Ура, русские!
— Вивио Совьет!
— Эльен демокрация!
— Салют Москва!
— Наздар!
— Ать жие руда Армада!
— Рот фронт!
— Сенкью, русские!
— Траяска Совет!
— Родные, спасители, герои, ура!..
А когда солдаты бросились на проволоку и стали рубить ее, вся разноплеменная масса заключенных кинулась им навстречу.
Пожилой исхудалый француз с седой головой, схватив за руки Павло Орлая, долго не выпускал их:
— О, Совьет! Москва! Же ву при! О, спасибо!..
— Ничего, папаша, ничего, живи себе, будь здоров.
— О, да, да! — кивал тот головой в такт каждому слову солдата, хоть едва ли понимал их смысл. Но он уверен, русский не может, ничего не может сказать нехорошего и неверного, раз он дает ему самое главное и дорогое — свободу и жизнь.
Тонкий маленький итальянец никак не хотел выпустить из объятий Веру Высоцкую. Черный как смоль грек завладел Закировым и уж в который раз обнимал молодого башкира.
— О, друг, большой друг!.. — твердил он русские, наверное, единственные известные ему слова, беспрестанно мешая их с греческими и латинскими: виктория, салют, аргус!
Матвея Козаря остановил бывший польский солдат.
— Естем жолнежем, — повторял он, расспрашивая, можно ли ему теперь возвратиться в новую польскую армию.
Березина поймал сухопарый англичанин и все объяснял ему свою судьбу. Он простой рабочий-металлист. Его ждут жена и дочь. Сам он сражался в Дюнкерке, где и угодил в плен.
— Мое сердце навеки с вами, — повиснув на шее у Румянцева, все твердил ему по-немецки молодой голландец. — Советский Союз — свет, люмен, солнце! Ваша армия — геркулес.
Русские девушки окружили Голева и расспрашивали, можно ли им домой, не надо ли каких документов. Старый уралец долго ходил от группы к группе, все высматривая свою Людку.
Березин встал на повозку и с этой импровизированной трибуны обратился к тысячной толпе, вызволенной из фашистской неволи. Он заговорил сначала по-русски, затем по-английски, и его слушали затаив дыхание. Слово правды, которая так редко прорывалась за колючую проволоку, теперь звучало пламенно и открыто, обещая людям жизнь, мир, счастье, и в ответ подолгу не смолкало штормовое «ура» и повторялись слова привета и благодарности.
Всю дорогу только и разговору, что об освобожденных.
— Всем тяжела неволя, и всем нелегко, а вашим людям труднее всех, — говорил Березину Янчин. Его партизанские роты все еще следуют с полком и на пути в район действия чехословацкого войска на деле постигают советскую тактику современной войны.
— Почему труднее? — переспросил Григорий, шагая рядом.
Мысль Янчина несложна. Люди из капиталистических стран не знают истинной свободы. Они и на «свободе» что в тюрьме без решетки, тогда как советские немало пожили свободно, и им труднее за решеткой. Может, и труднее, согласился Березин, однако у них крепче закалка, они сильнее духом, а раз так, они и вынесут невыносимое, чего не выносит никто.
— Я не был ни в концлагерях, ни в канадах, ни в америках, не голодал даже, меня никто не арестовывал, не бил, не пытал, — говорил Янчин. — Я просто жил дома, но и дом — неволя. А пришли гитлеровцы, началась война, поверите, быстрее понял: лучше смерть в борьбе, чем жизнь в неволе.
На привале к Янчину с Березиным подсел уралец Голев.
— Молодежь у нас не знала неволи, — заговорил он, скручивая папиросу, — а мы вот, кто постарше, досель ее помним, ей-бо, помним. Слушаю вас, — повернулся Тарас к Янчину, — будто свой дооктябрьский день вижу. Живешь, вроде вольный человек, а душа взаперти. Свобода — она как воздух: нет ее — задыхаешься, а есть — не замечаешь, будто так и надо.
— Учитель у нас один, и дорога одна — ленинская, — раздумчиво заговорил Янчин. — Другим веры не будет.
2На привал партизаны и солдаты расположились у перекрестка дорог возле синего щита с помпезной рекламой со свастикой из перекрещенных сапог. Березин подсел к Янчину.
— Видите, — указал на нее Штефан, — это Батя. Что там написано? Чепуха, бахвальство миллионера. Будто обувь его самая прочная и самая дешевая; рабочему золотые горы сулит, рай на земле. Хотите знать, что такое Батя, их спросите, — кивнул Штефан в сторону своих людей, — они почти все из батиного «рая». Это паук на золотой паутине. Попал в нее — не выпустит, пока паук из тебя все соки не вытянет. Живосос проклятый!
Батя настойчиво проповедовал вечный мир между капиталистами и рабочими. Имел свои газеты, своих писателей, свою заводскую тайную полицию, своих депутатов в парламенте. Обувного короля пражские буржуа почтительно именовали чешским Фордом, а его город Злин — уголком чехословацкой Америки. Впрочем, как смотреть: Злин был поистине место зла, где воедино собраны все пороки капитализма.
— К нашему счастью, — продолжал Янчин, — нашелся у нас писатель, которому лично привелось поработать в Злине и самому увидеть ту тюрьму без решетки. Это Святоплук Турек. Он бежал из батиного «рая» и написал о нем книгу «Ботострой». Но утром книга вышла — вечером была изъята. Сотни полицейских охотились за книгой, собирая ее по магазинам. Двенадцать юристов выступали потом на суде, обвиняя автора. Шантажируя писателя, Батя предложил ему миллион марок, чтобы он отказался от книги. Книга так и пропала бы, если б не коммунист-защитник, потребовавший прочитать книгу на суде и внести ее в протокол. Я знаю эту книгу, в ней истинная правда о Бате, только среди рабочих писатель не показал настоящих борцов, а их было немало, — и командир с гордостью посмотрел на своих партизан, дескать, вот они, все оттуда! Янчин закурил и продолжал:
— Человек у Бати ничто, чем бессловеснее, тем лучше. «Кулак — вот сила!» — развращая рабочего и разжигая в нем зверя, говорил Батя, и прав Турек: работа у него никому не мила, кругом бич и окрик, а люди кусаются и грызутся, топят друг друга, чтоб удержаться самому. Лишь в одном молодец Батя, — оживился вдруг Янчин, — он по-настоящему научил нас ненавидеть капитализм. Слышали о делах «хлапцев с Батевана», о сотнях партизанских отрядов? Ведь половина их командиров — с батиных предприятий. Добрая наука!..
3К партизанам приехал Вилем Гайный. Завтра весь отряд Стефана Янчина уходит в свое войско.
Молодой чех рассказал о статье в газете, присланной их корреспондентом из Франции Яном Ярошем.
— Весь мир видит, победу делают русские, хоть американские бизнесмены прямо из кожи вон лезут, раздувая свои заслуги. Их черная душа вся обернута вот этой листовкой, — достал Вилем чехословацкую газету, в которой перепечатана листовка, и протянул Березину. — Хотите прочитать?
Григорий попросил перевести ее с чешского. Грязная бумажонка предсказывала скорую войну между СССР и США.
— Вас, конечно, интересует, откуда это? — поморщился Гайный. — Из американского журнала «Ридерс дайджест». Геббельс ее во всех газетах перепечатал. Американский журнал открыто распространяет такую гнусь, и Геббельсу не нужно лучшего помощника. Видите, какая циничность! А знаете, откуда листовка? Ян Ярош находился в 805-м американском батальоне истребителей танков, в Западной Германии. Немцы немало удивляли янки своей уступчивостью и без боя сдавали им город за городом. А тут удивили еще больше. Немецкие стопятимиллиметровые снаряды, не взрываясь, глухо шлепались в грязь. Все объяснилось просто: они были начинены перепечатками статей из американского журнала. Вот этими самыми, — указал Ярош на листовку в газете.
— Все они одинаковы, одного поля ягоды, — зло заговорил Жаров.
— Нет, не бывать по-ихнему, дудки! — разошелся Юров. — Слышали старую шутку о незадачливых корабельщиках? Сказывают, большущий кит похож на остров. Корабельщики пристают к нему и, вбив колья, привязывают к ним корабли. Чудовище терпеливо и не шевелится. А разведут на его хребте огонь — оно тотчас вместе с обманутыми пловцами в пучину. Дельцы из «Ридерс дайджест» мне и напоминают тех корабельщиков. Подпалят еще раз — тоже угодят в пучину.
4Время уже к полуночи, и Андрей прилег вздремнуть. Тяжка горная война. Она безжалостно выматывает силы. А с рассветом снова бои на горных кручах. За окном тихо-тихо. Только тишина фронтовой ночи тревожна и настороженна. Она чем-то похожа на туго натянутый барабан или струну: стоит едва прикоснуться — и все звенит, будя ночной покой. Так и сейчас — то голос часового: «Стой, кто идет?», то дальний выстрел, то гулкий разрыв — и все тихо.