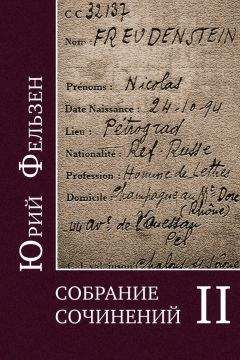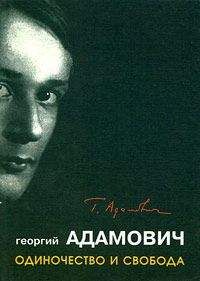Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I
Письма о Лермонтове
Письмо пятое
С ТЕХ пор как вам – неизменно и точно – два раза в неделю пишу, я для вас приберегаю каждую мысль, мне представляющуюся пленительной, в чем-нибудь любопытной и новой – всё равно, услышанную, прочитанную или самостоятельно найденную. Но сколько бы ни волновали меня подобные мысли, нечаянные душевные «открытия», вдохновенное сочетание слов, я удерживаюсь от немедленного их высказывания и не пишу до очередного понедельника или четверга – и ради порядка, и еще более, чтобы слишком скоро вам не наскучить. Правда, потом я боюсь забыть приготовленное для вас, без конца его себе повторяю, от повторений, от постоянного дразнящего откладывания увлекаюсь и многое разукрашиваю, и поневоле у меня появляются напор, старание, пыл, я придаю значительность и сложность, несоответствующие предназначенному вам «открытию», и вы должны мне простить чрезмерную договоренность, вероятное косноязычие и неудачи, неизбежные из-за считания с вами, из-за невозможности для меня по-иному оставаться собой.
Вот вчера во французском критическом фельетоне я наткнулся на фразу, пожалуй, случайную, но верную и страшную – об «умирании произведений», – и, как примеры, с некоторой осторожностью были названы «Песнь о Роланде» и «Эмиль». Мне сразу вспомнились прежние наши споры, когда я высказывал нечто похожее и называл произведения куда более громкие и всеми любимые, а вы, со свойственной вам тогда презрительной ко мне неприязнью, говорили о моем «кощунстве», о желании «быть своеобразным и поражать», об отсутствии у меня отклика на всё величественное, о «страхе перед всяким величием» и даже – о мелкой моей недобросовестности: «Про каждую книгу решать – устарела – это чересчур легкий способ подчеркивать свою современность». О, как насмешливо и злобно вы растягивали слово «современность»: я от обиды, от внезапно возникавшей мстительности – с улыбкой превосходства, столь вами ненавидимой – выдавал эти мысли за свои, за что-то, мне одному (мне единственно умному) понятное, за какое-то свое перед всеми, да и перед вами, необычайное торжество. Между тем подобные мысли, когда-то, по чужому намеку или указанию, меня поразившие и сегодня в газетной статье лишний раз случайно подтвержденные – эти мысли давно сделались навязчиво мне близкими. В различные времена меня преследовал ряд сходных наблюдений и страхов – в каждое данное время о чем-нибудь одном, – и все эти «мании» одинаково вызывались неудовлетворяемой жалостью к людям, вечной невозможностью отвести несправедливость и помочь. Так, в детстве, гимназистом, однажды я услыхал, что какой-то малознакомый господин «тиранит жену» – это надолго меня возмутило, заставило искать жестокость и насилие в самых невинных, в самых шутливых поступках всякого мужа с женой: обычное остроумничанье мне стало казаться издевательством, похлопывание по плечу – «проявлением власти», каждый муж представлялся непременно «тираном», я с ужасом воображал, что происходит у супругов вдвоем – и действительно нередко видел самоуправство и женское отчаяние там, где другие ничего не замечают. Затем, после первых женщин, после той радости, того разрешения, которое они давали, после откровенного разговора с некрасивой и немолодой барышней, мне восхищенно завидовавшей, я вдруг проникся жалостью, сознанием неравенства и какой-то своей вины перед многими сверстницами, перед старшими их сестрами, взволнованно ожидающими замужества (и будто бы всегда помнящими, что «теряется их лучшее время»), перед такими, как моя собеседница, безнадежными старыми девами, перед всеми, у кого не бывает мне доступной, блаженно-успокоительной радости. Теперь, кажется, изменились нравы (или я огрубел и занят другим), но тогда меня это – не смейтесь – мучило и лишало какого-то права (в прямолинейной моей наивности) пользоваться мужской ненаказуемостью и свободой, приводило к постоянному самосгрызанию – впрочем, бесцельному и бездейственному. Впоследствии бывали у меня иные – от чрезмерной совестливости – разнообразные «мании», иные длительные порывы возмущения и грусти (и я бы сделался социалистом, если бы всякое мое возмущение не соединялось с уверенностью в собственном бессилии и беспомощности) – в последние месяцы или годы меня преследует именно мысль о конечности, о несомненном умирании того, чем мы восхищаемся, что мы считаем, вернее, хотим считать бессмертным, что является, в сущности, лишним доказательством человеческого стремления ухватиться за какой-нибудь (хотя бы заведомо-иллюзорный) «кусочек вечности» среди шаткой и преходящей земной жизни. Но вы оспариваете мои слова (как видите, не торжествующие и не самодовольные) совсем не по настроению, в них выраженному, а по самому их существу, вы назовете тысячелетние книги, картины «общепризнанно-бессмертных» творцов. Но прислушайтесь, присмотритесь также и к себе: не случалось ли вам от упорства, от нечаянной удачливости – находить обобщение, вам же казавшееся открытием, новизной, вас вдохновенно радовавшее и как бы окрылявшее, – и затем, после многих дней, разочаровываясь, убеждаться, что ваше «открытие» не опровергнуто, но незаметно тускнеет, особенно если было вслед за ним другое, с ним как-нибудь связанное или на него похожее. Последнее непременно в себе заключает сгусток, «душу» открытия предшествовавшего (и стольких еще предшествовавших, забытых или незабытых), непременно оказывается более, чем они, исчерпывающим – и подобное неминуемое «первенство последующего» превращается для каждого из нас в суровый и страшный закон, переносится из опыта личного в общий – на тот (не только воображаемый) «интеллектуальный поток», который словно бы опоясывает землю и словно бы в себя вобрал все трудные, героические, иногда смертельно-опасные открытия и усилия – и в этом, еле нами постигаемом, надчеловеческом, надземном полете по-странному очевиден жестокий «закон» (что последующим продолжено, улучшено и в конце концов вытеснено предыдущее), – и вот, как мальчик перед неправедностью, перед условностью и ложью взрослых людей, я не могу успокоиться и навязчиво-горько осуждаю смешное, неисправимое наше самохвальство, и в то же время я переполнен жалостью к напрасным подвигам и напряжению, к удачам, казавшимся ослепительными и постепенно превратившимся в пустые, мертвые, о чем-то давно превзойденном по-старчески напоминающие слова.
Неужели, как износившееся платье, эти бессмертные «вечные произведения» становятся никому не нужными и существуют из милости или по недомыслию. Я часто, словно бы стараясь кого-то утешить, думаю, что их сила в неповторимости человека или времени, в них сказавшегося, в невозможности полнее и соответственнее выразить жизнь и надежды какого-то круга людей, но всё это до скучности явно вымышлено: и людей и время легко подделать – увы, неподдельны лишь усилия чего-то достигнуть, но совсем не достижения, осязаемые и наглядные, да и стоит ли кому-нибудь из нас подделывать то, что другие неизбежно потом превзойдут.
Всё это (с вами наперед согласен) просто и плоско, но ведь простое и плоское иногда верно – и я попробую переиначить свое утверждение и вас убедить в его, пускай непритязательной, правильности: мне кажется, мы как-то охватываем всё человеческое прошлое, сгущенную суть разнообразнейших времен – и прославленных творений каждого времени, и чьих-то неведомых напряженных трудов, – охватываем не полностью, не в стройном порядке и не осознавая охваченного, а слепо приняв тот, хотя и произвольный, но неслучайный и умный отбор, который производится у всякого прошлого следующими веками и людьми – такие постепенно отбираемые «сгустки прошлого» (нередко более всего и достойные быть усвоенными) доходят до внимательных умов каждого позднейшего поколения, и в нашем (как и во всяком другом) настоящем, в его «интеллектуальном потоке» – если бы можно было подобный «поток» прервать и безвдохновенно-добросовестно разложить – словно бы заключено всё творческое прошлое (о чем говорилось уже не раз), и только от него отталкиваясь, мы добьемся нового и большего. Вы язвительно скажете – «что же, теория прогресса», – и вам известно, как неловко теперь об этом упоминать, но для меня не постыден «прогресс», и он явился бы даже спасением, только его не могу найти: ведь от всех этих усложнений, от правдивости, от всякого нового, с трудом открываемого, «кусочка истины» становится меньше утешающих надежд, легкомысленных духовных соблазнов, происходит то, о чем мы столько с вами говорили, что «слепое счастье заменяется зрячим горем», а главное, какой же прогресс, какое обогащение, если мы сами исчезаем и весь напыщенно раздутый земной «мирок» когда угодно может исчезнуть. И все способы изобретенного нами бессмертия – человеческой души и человеческого творения – всё это против правды единственно-очевидной, правды великого человеческого исчезания.