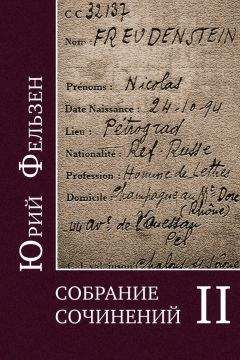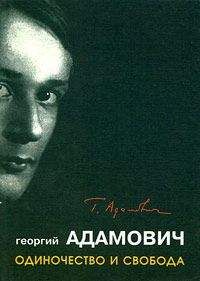Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I
Едва ли не самое для меня отрадное, вновь найденное очарование – наши разговоры на улице, дома, в кафе, их обогащающее, торопливое, вдохновенно угадываемое согласие: у меня есть потребность что-то «давать» одному или немногим друзьям (при необычайном оскудении среди непривычных людей или в большом обществе, когда я терзаюсь паразитической своей бесполезностью и бедностью), и этот мой собеседнический, единственный «талант» проявляется, должно быть, предельно именно от вашего подталкивания и поддержки. Ваше, мною гордящееся одобрение, ваш голос, какие-либо нечаянные, бесцветные слова равнозначны мягкому, ласковому пожатию руки и важнее посторонних, с любым громким откликом, похвал (правда, мне и неизвестных, но с достаточной – от зависти – ясностью иногда бесплодно меня искушающих), и накопленные за день для вас чужие и собственные мысли, будучи вам сообщены, немедленно тускнеют, исчезают и забываются, как писательские наблюдения, попавшие в очередной роман.
К довершению удачи, неожиданно появилась Рита, и ее появление, казалось, еще более обеспечило Шурину отстраненность и мое спокойствие – так же точно и ее отъезд был до некоторой степени причиной всего тяжелого, что у нас произошло. Ее воздействие окончательно примирило меня с Шурой: в Рите (как и в Марк-Осиповиче) для меня имеется естественная союзническая благоприятность, и при ней восстанавливается прежнее наше соотношение, когда Шура с ней и приходил и уходил, а на ваше к нему внимание даже не смел и надеяться. Но и независимо от этой ее успокоительности для меня в Рите всегда оставалась какая-то, быть может, поэтическая с вами связанность, то, что она – ваша молодость, детство, гимназия, ваша стариннейшая подруга и соученица. С ее помощью, словно от напоминания, оживают меткие, давние, милые ваши рассказы, и вы опять в моих вымыслах выступаете белокурой, стройно-прямой, смешливой и умненькой девочкой, и мне трудно передать, как это много для меня значит. Таинственное сплетение – ваша далекая гимназическая чистота, мне приоткрываемая Ритиным чарующим присутствием, смутным отражением вашей с ней девической дружбы, и ее словно бы очищающее неведение о нелепом случае, ворвавшемся в нашу жизнь. Она – пускай по-наивному – благородно-сдержанно-счастлива, и это ровное внутреннее ее сияние невольно переносится на каждого из нас. Ее неизменная, неназойливая порядочность, ее застенчивая доброжелательная улыбка «разрядили» – если можно так выразиться – нашу утомительную многообразную напряженность, и вы, чуть задетая, меня поддразниваете, что я с нетерпением жду ее звонка, хотя и сами обычно стремитесь ее видеть.
Но вы изнервничались, исхудали, побледнели от всей этой, действительно почти невыносимой напряженности, от слишком резкого перехода – после такого отчаяния – к такой непрерывно-требовательной, восторженной и обессиливающей полноте, и я однажды, чтобы нарушить нередкое у нас молчание, вам предложил одной уехать на месяц в Канн и сразу поверил в какую-то правильность нечаянного своего предложения. Мне вначале показалось невозможным вас не встретить по первому же своему капризу, с вами не провести сколько угодно часов подряд, к чему я безмерно привык и чем никогда не смогу насытиться, однако чувство ответственности за вас, за истерзанный влюбленно-покорный ваш вид, за какой-то, едва ли не воображаемый ласковый ваш упрек («Посмотрите, что вы со мною делаете – продолжайте, я рада и на всё согласна»), это чувство ответственности перевесило себялюбивую потребность быть около вас, и я по-прежнему настаивал на скором вашем отъезде. Мне также представилось, что пока мы днем и ночью с вами не расстаемся, новые, еще хрупкие отношения (точнее, ваше ко мне отношение – мое издавна проверено и зависит только от вас) – из-за какой-либо случайной недомолвки – легко улетучатся и сорвутся, что их надо закрепить расстоянием, временным от них отказом (обнаруживающим всю их незаменимость), уединенными мыслями о том, как нам опять будет восхитительно вместе. Но ко всем этим благоразумным доводам – о вашем здоровьи, о закреплении вашей любви – присоединялось и свойственное избалованным людям шальное любопытство ко всякой безрассудной перемене, и понемногу я вас убедил в необходимости уехать и отдохнуть. Меня тронул неожиданный ваш подарок накануне отъезда, скромные плоские часы, и, пожалуй, еще более подарка – ваше смущенное желание одолжить мне деньги (то и другое происходит у нас впервые), – и я обрадовался, что могу вашей дружеской помощи не принять и что сохраняется моя именно денежная с вами безукоризненность. Вы, как всегда, почти не выдали тайной своей тревоги, и единственные о ней намекающие слова («я очень расстроена»), давно знакомые и по-старому для меня значительные, прозвучали каким-то глухим стыдливым признанием и запомнились потом, на весь долгий срок моего одиночества, словно торжественное завершение этих блаженно-неповторимых недель.
Когда я, неожиданно спокойный и свободный, медленно уходил с вокзала и с приятной беспечностью выбирал, что дальше с собою делать, перенестись ли в метро на Монпарнасс или рассеянно бродить по непривычным окрестным улицам, меня отчетливо, до навязчивости, как бы преследовало ваше лицо в последние минуты перед отъездом – скрытно-огорченное, нахмуренное, усталое, – и мне казались неясными и двоякими мои собственные прощальные впечатления. Я сердцем и кожей томительно ощущал всю пугающую трудность, всю жуткую непостижимость отрыва, и уже где-то внутри противоставлялись моей тоске первые попытки от нее уйти, неосознанное желание возможно скорее приспособиться к длительному вашему отсутствию. Как это часто бывает, разъединенность возникла еще при вас – от очевидности, что мы расстанемся, что вы исчезнете, что неизбежно в памяти потускнеет ваш облик, что надо сразу же на весь этот месяц себе устроить терпеливую, одинокую, заполненно-достойную жизнь. Поезд двинулся без предупреждения и так неторопливо, точно он никуда вас не увозил, вы стояли в коридоре тяжелого спального вагона, чуть отойдя от окна, озабоченная и странно-прямая, с неуместно-яркими розами в опущенной левой руке, неумышленно-гордо подбоченившись правой рукой и меня как будто не замечая – по-видимому, и в вас происходило то же, что и во мне, упорная работа приспособления. Впрочем, как полагается, поезд стремительно заторопился, вы подошли к окну и долго махали платком, я, приподняв шляпу, старался не отставать от вагона, затем всё уничтожилось и сменилось приятной покорной легкостью, быть может, предопределявшей теперешнюю спокойную колею. Я день за днем наслаждаюсь живительным душевным отдыхом, беспрепятственной и крепкой в вас уверенностью, еще подтверждаемой аккуратными, неизменно-добрыми вашими письмами – так же легко и благотворно мною переносится и бессонница, если только она не вызвана безудержным отчаянием или ревностью, и это похоже на действие морфия после боли, не сразу усыпляющее, зато надолго блаженно успокаивающее. Очевидно, я всё же не избалован слишком прямой и наглядно ощутимой удачей и должен, хотя бы на время, от себя отвести (да и не впервые от себя отвожу) ее непосильную тяжесть, и потому созерцательное одиночество или бессонница не мучают меня и не доводят до лихорадочной нетерпеливости, но даже как-то меня укрепляют, создавая несокрушимую выносливость, нам нужную для перенесения горя и еще более – для перенесения радости.
Внешняя моя колея – беззаботная, ровная и неуклонная: утром прилежные скучные переводы, за которыми ни единой живой мысли и лишь смутное предвкушение веселых дневных блужданий, днем, вечером, ночью – бесконечные эти блуждания (в них так сладостно кинуться после утреннего непрерывного самоудерживания), знакомые и новые кафе, очаровательные парижские улицы, о вас постоянно напоминающие, вас произвольно-непосредственно восстанавливающие. Нередко я себя спрашиваю – впрочем, без раскаянья, от искусственной, чисто-головной добросовестности, – допустимо ли в такое страшное время целиком погружаться в личные удовольствия и огорчения, и не является ли всё неустанное мое «самоковыряние» бесплодным, праздным занятием, изменой действительному моему долгу. Вероятно, каждый из нас как-то хочет оправдать свою жизнь, и оттого у каждого наготове множество осмысливающих ее доводов – приведу и свои доводы и, несмотря на столь разрушительную оговорку (насчет времени, ответственности и долга), вам признаюсь, что для меня они безошибочны. Не стоит повторять общих, всякому известных слов, что «стремление к личному счастию» – основа любой человеческой деятельности, любых, самых от нее удаленных, самых разнообразных порывов и целей и что «личное» вовсе не в стороне от такой, даже высокой и благородной деятельности и не случайный ее придаток, а ее неизменно-вдохновляющая первопричина. Пожалуй, нет ни единого наглядно-известного мне примера, и я не знаю ни одного жизнеописания, где бы тотчас же не угадывалась, где бы на всё не влияла эта личная неизбежная задетость, иногда прямая и нескрываемая, иногда тщательно запрятанная – примирившийся грустный «отказ от счастия», утерянная, по-разному преломленная любовь. Если пристальнее во многое всматриваться, то, мне кажется, нельзя не убедиться, что всякая борьба за жалость и добро в мире, за бесстрашную ясность, за расковывающее нас искусство, руководится теми или иными осложненными личными побуждениями, каким-либо необходимым выходом из отчаяния, из темной и душной страсти, какой-либо им самоотдачей или вынужденной от них защитой. Разве бесчисленные войны и революции, всевозможные верования, религиозные и политические, не должны обеспечивать нам именно выбор достойной жизни, именно личную и душевную свободу, и не должны устанавливать для нее спасительные законы и границы. Разве любовь нас не облагораживает и не исправляет, нас не приводит к удивительной готовности – пускай расчетливой или слабой – немедленного жертвенного самоотречения, хотя бы в пользу одного человека. Сколько раз вы сами запальчиво на меня нападали, раздраженная, насмешливая, смутно недовольная тем, что я не умнее, не «лучше всех», что не обнаруживаю, не даю всей своей, будто бы мне отмеренной силы, и разве подобная ваша требовательность не шла исключительно от любви и ответное, порою чудовищное мое упорство не вызывалось понятным желанием быть как-то на уровне предельно-суровой вашей требовательности. И разве мы, среди горя и радости, безбоязненно не касались чужой и своей смерти (по крайней мере, у меня при малейшей с вами неупорядоченности – нестерпимая боль, навязчивое искушение самоубийством) и разве не чувствовали каждую минуту, что только любовь равна и противоположна смерти, что голое безлюбовное существование по-животному ужасается перед концом и ничем возвышенным от него не прикрыто. И если всё это искренно и правильно (а для меня это неотразимо-правильно и лишь выражено по моей неопытности в напыщенных, неуклюжих словах), если всякая наша деятельность, и стремление, и долг – от любви, то как же не начинать с основного, какая заносчивость сразу же судить о производном – ведь мы несомненно к нему придем, острее и глубже поняв его заложенную в нас первопричину.