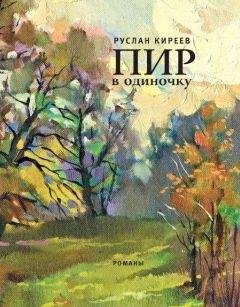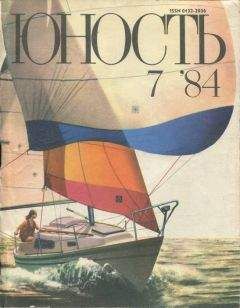Руслан Киреев - До свидания, Светополь!: Повести
И вот опять босиком, но теперь земля горяча, суха, печёт солнце. Никого нет, и они, воспользовавшись этой полуденной дрёмой, отодвигают планку на заборе, чтобы пролезть в соседний огород. Митя не решается, на лице его сомнение и неуверенность. Глазами показывает на свой огород — все, дескать, что и у соседа, зачем же рисковать? — но Паша неумолим. Митя, помешкав, подчиняется, хотя и старший.
Эта черта осталась в нем на всю жизнь. Никогда не прекословил жене — только разве сильно выпив. В такие минуты Валя не спорила с ним, соглашалась и успокаивала, а наутро выдавала сполна. Он жалко каялся. В гневе Валя была беспощадна, но Сомов признавал за ней и ум, и честность, и силу воли.
В последнем подробном внимании всматривался он в мёртвое лицо. Спёкшиеся в ухмылке губы, не до конца прикрытые глаза — под плоскими веками продолговато светятся тусклые полоски, жёлтый лоб с вмятиной…
Потом Сомов увидел себя в гробу — зрелище то ещё. Череп, обтянутый искромсанной, залатанной кожей с клочками седых волос, огромный хрящеватый нос («Растёт он у меня, что ли, с годами?» — думал Сомов); тонкая шея. Рядышком лежали они — брат Митя и брат Паша, а вокруг двигались какие‑то люди, вздыхали, шамкали, звенели деньгами… Деньги‑то откуда?
В удивлении оглядел Сомов комнату. Старый, довоенный ещё шифоньер со стопками журналов наверху — Валя всегда много читала. Репродукция над кроватью: охотники, большая собака на ковре, положила на вытянутые лапы узкую умную морду, а стол дичью завален; с незапамятных времён у них эта картина, а он, бывая здесь, давно уже не видел её. Древнее трюмо завешено простыней — чистой и крахмальной, с рубцами от глажки. На подоконнике — пластмассовая ваза с яблоками; одно надкусано и почернело.
Чужой и почему‑то очень просторной казалась ему эта всегда тесная комнатка. Вынесли что‑то? Люди входили, выходили, старушки в основном, Сомов никогда не видел их. Рядом с Валей — маленькой, сгорбившейся, с безжизненными глазами — сидела сестра её Вероника, а за Вероникой внук стоял. Дядя Паша скользнул по мне взглядом и подумал — наверное подумал, — что вот у Вероники и дети, и внуки, а кто возле Вали стоит? Пышнотелая Рая, жена Кубасова. С подобающим выражением скорби гладит Валино плечо, и хотя будто бы вся поглощена прощальным созерцанием дяди, всякий раз, когда раздаётся монетный звон, взгляд её из‑под полуопущенных век — юрк туда и, удовлетворенный, возвращается обратно.
Сомову на воздух захотелось. Машинально пошарил возле себя, ища опору, и опора тотчас явилась: рука сына. С благодарностью сжал Сомов холодную узкую ладонь. Выходя, заметил у двери на тумбочке тарелку с деньгами: старушки одаривали вдову.
Костя вывел его во двор, на солнце, и только здесь, осторожно глотнув чистого воздуха, понял Сомов, какой удушливо–сладкий, тлетворный дух стоит в комнате.
— Ступай Валю выведи, — попросил он сына. — Пусть отдохнёт.
Костя хмурился и по–прежнему крепко держал его под руку.
— Пойдём.
— Куда? — спросил Сомов.
— Пойдём, сядешь.
Он отвёл его в беседку, где хлопотали женщины и полз запах еды. Сомову не хотелось оставаться тут, но, чтобы не задерживать сына, послушно опустился на обшарпанный канцелярский стул (и откуда он взялся здесь!) между кадкой с лимонным деревом и корытом, что висело на выбеленном, в виноградных листьях столбе.
— Иди, Костик. Выведи тётю Валю.
Сын ушел. Два примуса взапуски шумели на цементном полу. Галочка, фартуком повязав вафельное полотенце, раскатывала на столе тесто. В огромную кастрюлю крошила что‑то Люба.
— Скоро и мне предстоит то же, — проронила она. — Не за горами.
На него испуганно оглянулась Галочка. Сомов успокоил её улыбкой.
— Все правильно. — И прибавил, потешаясь: — Может, и меня заодно отгулять?
Теперь его увидели все, всполошились, и только на одутловатом лице жены не было ни растерянности, ни удивления.
— Подкрался, — сказала.
А её помощницам было неловко перед ним, они зарделись, и это очень шло им.
Сомов не унимался.
— А что, неплохо б погулять на собственных поминках. А, мать? А то ведь несправедливо: чествуют человека, а человека нет.
Женщины конфузливо улыбались, Люба же, как ни в чем не бывало, продолжала крошить что‑то. В беседку влетела Ляля Берковская — шумная, накрашенная, с букетом роскошных роз. Слегка понизив для приличия голос, тараторила о своём, а Сомов следил за ней глазами и улыбался.
— Здравствуй, Ляля. Ты на свадьбу?
На мгновенье Ляля обмерла.
— Дядя Паша! — Бросилась к нему, расцеловала. Ничего не боялся этот дьявол в юбке, а уж каких‑то там палочек Коха — тем более. Жизнь ого как трепала её — и мужа сажали, и квартиру обворовывали, и сама под машину попадала — дважды! — но держалась молодцом, и Сомов любил её за это — пожалуй, единственную из всей многочисленной Любиной родни.
Небрежно сдвинула Ляля зазвеневшую посуду, угол стола освобождая, выложила десятку.
— Давайте, бабоньки, кто сколько может. Помочь надо тёте Вале. Потом наберутся как черти — не до того будет. А, Раечка? Давай, милая, давай. Для тёти Вали.
Подошедшая только что Рая Кубасова насторожённо застыла у кадки с лимоном.
— Мы уже сделали для тёти Вали, — проговорила она. — Продукты привезли. Мясо, жир…
Ляля махнула рукой.
— Жир! Да вы полстоловой могли привезти.
На лице Раи выступил румянец.
— Ты бы прикусила язычок.
Не одни здесь, намекала, но Ляля не желала понимать намёков.
— А чего мне его кусать! Живите как хотите — я не считаю чужих денег. Но тёте Вале помочь надо. На пенсию не растанцуешься особо, а расходы вон какие.
«Молодец Лялька, — мысленно одобрил Сомов. — Ах, молодец!»
Приплыла Шура Баранова — вспотевшая, задыхающаяся от своей непомерной толщины. То к одной, то к другой поворачивала красное лицо, согласно кивнула обеим, потом сообразила, о чем речь, торопливо полезла в сумку.
Рая, взъерошенная как воробей, загибала пальцы:
— Говядина два кило — раз, жир — два, ящик помидоров, мука… Это как‑нибудь побольше твоей десятки.
— Муку мы принесли, — спокойно поправила Галочка.
Сомов глянул на неё с изумлением. Неужто она сказала?
— Слышь, дядь Паша, нсвесточка‑то! — насмешливо похвалила Ляля. — Сына твоего не оставит голодным. — Затем Галочке: — Что же это, мука, и все?
— Почему все? Мука, сахар… И ещё расходы были.
— Сахар наш, — сказала одна из соседок.
— А подсолнечное масло на пирожки? — уже другой голос, новый.
Сомов ошалело водил глазами. Неужели возможно такое — здесь, сейчас, за час до выноса тела?
А женщины расходились все пуще, влезла какая‑то старуха, кто‑то притащил и брякнул на стол гуся — вот гусь, смотрите. Галочка демонстрировала банку с вареньем, одна соседка тыкала в лицо другой квитанции телеграмм — срочные, в три раза дороже, — Шура Баранова испуганно, как сова, вертела головой, поддакивая всем, и только Люба продолжала невозмутимо крошить что‑то в свою бездонную кастрюлю.
С ужасом поглядывал Сомов на парадное — сейчас Костя выведет Валю. Что‑то говорил, урезонивал, но его слабый голос тонул в злобном приглушённом гомоне. Ах, бабье! Встать и пойти навстречу Вале и сыну, задержать их, но увидел, что Костя уже здесь, один. Слава богу!
На упругих щеках невестки темнели ямочки, но это были ямочки не смеха и удовольствия, какие знал и любил Сомов, а другие, новые для него. Галочка злилась:
— Почему с нас все тянут! Сомовы, Сомовы! Раз Сомовы, так больше всех давай. Вы такие же родственники. Гроб закажи, автобус закажи… Так что не одна мука, как вы считаете, тётя Ляля.
— Я так не считаю, милая.
— И возимся здесь — вчера весь вечер, сегодня… — И вдруг смолкла, осекшись.
Сомов проследил за её взглядом и увидел искажённое надвигающееся лицо сына. Стало тихо.
— Все, бабоньки, хватит, — сказала Ляля. — Пошебуршили, и довольно. А ты ступай, Костя, ступай. Не лезь в юбочные дела. Бабы — дуры, не разберёшь их.
Но было поздно. Стиснув зубы, не отрывая от жены округлившихся глаз, Костя приближался. Обеспокоенный Сомов опять завозился на своём стуле.
— Костя! — позвал он. — Костя!
Но Костя не слышал. Выдёргивая из карманов, бросал на стол, прямо на рассыпанную по клеёнке муку смятые рублёвки, мелочь — две или три монеты звякнули, упав, — скомканный тетрадный лист, носовой платок, а сам все так же бешено и неотрывно глядел на жену.
— Вот какой у меня добрый муж, — произнесла та.
— Ты… Ты… — И не договорив, бросился прочь.
Сомов стоял на ногах, и уже не стоял, а торопливо семенил по двору, вдоль деревянного частокола, отгораживающего палисадники, хватался за него слабыми руками — спешил в ту сторону, куда сын убежал.
Его догнала Люба: