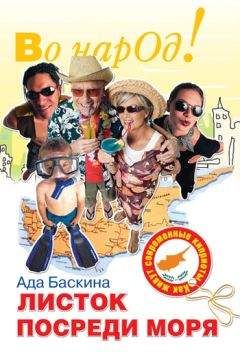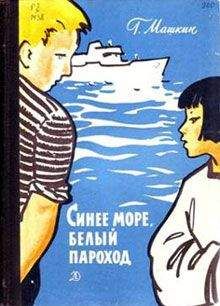Тамаз Годердзишвили - Гномики в табачном дыму
— Чего вздыхаете? — лукаво спросила Нина.
— Устал я…
— И я устала, — сказала Алена. — Давайте поплывем к берегу.
— Давайте.
Они плыли, временами останавливались передохнуть, рассказывали веселые истории, смеялись, дурачились. Тенгиз перехватил взгляд Нины, устремленный на Тамаза, потом кинулся «спасать» Алену, кричавшую ему: «Ой, тону, тону!»
— Как нам от них избавиться? — сказал немного погодя Тамаз.
— Ну-ка, ну-ка, без секретов, говорите по-русски, — рассердилась на Тамаза Нина.
— Вы славные ребята, и мы признаемся, почему так бесцеремонно подплыли к вам, — начала Алена. — Три дня наблюдаем за вами — ни к кому не пристаете!
— Спроси лучше, почему они все время в воде, никогда не загорают! — добавила Нина. — Придем — они в море, уходим — все еще плавают! Может, и спите тут, как дельфины?
— Мы же не такие лентяи, как вы! Встаете поздно, а в полдень обедать бежите, — сказал Тамаз, в отчаянии глядя на Тенгиза — тот весь посинел уже. Солнце успело зайти, стало свежо, и вместе с сумерками подул ветерок.
Девушки выбрались на опустевший берег, обсушились.
Ребята глаз не сводили с двух безупречных, тренированных тел.
Девушки переоделись и присели у самой воды, ожидая ребят.
— Выходите! Не последний день на море! — Нина скинула шапочку, и светлые волосы серебристыми лучами рассыпались по плечам.
— Выходите же! Составим план на завтра! Нам надо уходить: есть хотим и холодно стало, — заворчала Алена.
— Я выйду, не могу больше, очень устал… — сказал Тамаз.
— Потерпи еще немного, уйдут сейчас. — Тенгиз и сам весь дрожал. — Вместе выйдем…
— Не все ли равно — сейчас или потом!
— Вместе выйдем…
— Какое это имеет значение…
Ребята вышли из воды. Не вышли, а выкарабкались, волоча ноги! Могучие руки легко несли хилое туловище с искалеченными ногами.
Девушки вскрикнули и опрометью кинулись прочь. Охваченные ужасом, они неслись не разбирая дороги. Ни при входе на пляж, ни тем более сейчас не заметили сетку из тонкой проволоки, ограждавшую территорию лечебного санатория. Они налетели на ограждение, повалили его и сами растянулись — остались на сетке, словно золотые рыбки…
За моей машиной следовала машина Гогоны и «мигала» мне. Лишь теперь заметил ее. Я остановился на углу просторной площади.
— Не замечаешь меня, да? Куда едешь?
— По делу.
— Возьми меня с собой.
— Тебе будет неинтересно.
— Мне давно уже ничего не интересно.
— С тех пор, как перешагнула за восемнадцать?
— Да. Возьмешь?
— Едем.
Я поехал дальше. Машина Гогоны покорно следовала за моей. Не представляю себе, когда успела научиться так хорошо водить.
У входа на кладбище милиционер и сторож выразительно усмехнулись нам вслед. Нетрудно было сообразить, что́ они подумали.
— Видел, как поглядели! Может, о п р а в д а т ь их подозрение?
На уме у нее вечно одно, только об одном и думает и в машине, и в постели, и в институте.
— Не знаю, почему я решил сказать именно тебе… Из всех, кого я знаю, ты меньше всего заслуживаешь доверия… Ты еще сосунок, младенец. Скоро не то что меня — имени моего не вспомнишь; и все же доверюсь тебе. Повторяю, никому не говорил и не собираюсь говорить этого. Хочу, чтобы знала ты. Наверное, потому, что умру раньше тебя, если вообще умру когда-нибудь. Завещаю: похороните меня тут, рядом с этой женщиной. Видишь, справа от нее — муж, а место слева свободно. Вот тут, в этом месте. Слышишь?
— Слышу. Чья это могила?
В наступившей темноте не то что надгробной надписи — пальца у глаза не рассмотреть было.
— Гиорги, иди ко мне, я ничего не вижу, боюсь, ну подойди…
Гогона споткнулась.
Едва я взял ее за руку, она припала ко мне. Не зря я подумал то, что подумал при входе на кладбище. Гогона расстегнула пуговицы на моей рубашке и чуть-чуть куснула — нежно, приятно и еще как-то, не выразить — как. Потом опустилась на колени и обняла за ноги…
— Поедешь ночевать ко мне? — спросил я, когда мы шли к машинам.
— Нет, наши на дачу уехали и… и я попросила подругу переночевать у меня… А вот тут похоронен, говорят, страшно богатый человек. От инфаркта умер десять лет назад — тридцати лет! У него какое-то старинное грузинское имя было… Кажется, Тандарух… Представляешь, мне тогда девять лет было…
Гогона быстро села в машину и укатила, чтоб я ни о чем ее больше не спрашивал.
Я хотел нагнать ее и… Но взял себя в руки, только пригрозил ей пальцем. «Чего мне от нее нужно, собственно?!»
Обручальное кольцо соскочило и покатилось к кладбищенским воротам. Я не успел схватить его, оно исчезло под черными чугунными воротами. Кто знает, в чью могилу закатилось…
Я вернулся домой. Окна были распахнуты, но в комнате все равно стояла духота. Расстелил постель. На подушке валялся листочек вербы. У изголовья висят увеличенные портреты матери и отца. Между портретами — освященная веточка вербы. Когда я откидываю одеяло, на подушке всегда обнаруживаю листочек и невольно вскидываю глаза на портреты.
Не делайте этого, мать, отец! Я ни на миг не забываю вас. Все кажется: откроется дверь — и войдете… Тихо, спокойно, радостно. Такими, какими были; такими же хорошими, как пятеро ваших детей и множество внуков. Только я один не оправдал ваших надежд…
Я разделся, лег, укрылся простыней. Ох, забыл выключить свет!
Поле красное. Сплошь заросшее красной травой. И земля красная, и кусты, и деревья, и цветы. С гор веет красный ветерок, колышет цветы и траву; с кустами и деревьями он не справляется, слишком слаб. Посредине поля маленькое озерцо. Совсем крохотное, словно пригоршня прозрачной росы. На траве лежит, отдыхая, женщина. Усадила рядом с собой голеньких малышей-близнецов, крепеньких, сильных, как львята, и возится с ними. Мальчишки упитанные, попочки в ямочках. Ползают по телу матери, кусают грудь, водят по лицу руками. Женщина лежит у озерка и отбивается от любимых щеночков брызгами прозрачной холодной воды. Мальчишки визжат, кричат, все трое заливаются смехом. Потом женщина встает, подхватывает младенцев, прижимает к груди и с усилием взбирается на горку: что поделаешь — отяжелели ее львята. Мальчишки играют ее волосами, ласково тянут их, целуют мать. Забравшись на вершину, женщина останавливается и устремляет взгляд вдаль. Потом снова возвращается к озеру… Рядом воркует белый голубь.
Звонит телефон.
— Слушаю.
— Это я, дядя Гиорги.
— Раз называешь дядей, значит, собираешься просить. Сколько тебе?
— Восемьсот.
— Ни больше и ни меньше? Пауза.
— Кто тебе сказал, что у меня деньги?..
— Кто-то позвонил маме.
— А отец что?
— Не проси, говорит, все равно не даст.
— А мама что сказала?
— Мама знает, что дашь, но не говорит отцу… Боится, рассердится и…
— Ладно, приходи.
— Куда?
— Будто не знаешь куда! К сберкассе — ко мне же не заходишь…
— В котором часу?
— В три.
Он повесил трубку.
— А «спасибо», негодник?! — сказал я вслух. — И мне бы не помешало купить брюки или костюм. Износился мой совсем…
— Вы мне говорите? — спросил кто-то по-английски.
Я огляделся: с телеэкрана улыбалась прелестная дикторша. Я выключил и свет, и телевизор, не дав ей сойти с экрана и лечь в мою постель.
— Господи, пошли моим детям доброго дня! — сказала мама.
Аминь.
1977
НЕСКОЛЬКО ЭПИЗОДОВ ИЗ ЖИЗНИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ТРАГИКА
Что делать хорошему игроку, когда не везет…
И. ЧавчавадзеПроснувшись, он не сразу решился высунуть нос из-под одеяла, так выстудило комнату. Обвел взглядом вещи — все оказалось на своих местах. Усмехнулся, подумав: «Будто пришел бы кто ночью и переставил или взял без спросу». Уставился на железную печурку: «Когда еще растопишь ее, окаянную! Который час, а?»
Ходики на стене тикали вымученно. «Смазать их пора», — отметил он про себя. Часы показывали без десяти девять — или, как говорят по радио: восемь часов пятьдесят минут. Он вскочил, плеснул на растопку керосин и чиркнул спичкой — дрова в печку закладывались с вечера и полный чайник ставился на нее тогда же. Подождал, пока темная грязная жидкость, именуемая керосином, воспламенилась, и нырнул под одеяло. На «печную операцию» ушло несколько минут, и тепло собственного тела, сохраненное ему постелью, было во сто крат приятней. Подобрался весь, присомкнул веки. Огонь в печке наконец располыхался. Теперь главное было одеться, пока не потухла печь, а что она быстро накаляется и разом стынет, даже малышу известно. Много жечь дров он не мог, каждое поленце было на счету — чтобы до весны хватило. «С 17 апреля перестану топить, — твердил он себе каждое утро, словно подталкивал время. — По старому стилю март кончается тринадцатого апреля, но бабушка говорила и не ошибалась, что он три дня взял у апреля в долг. А раз так, холода продлятся до семнадцатого апреля. В Грузии, особенно в этой провинции, где я сейчас, зима сменяется летом. Не сразу, понятно, до середины мая погода будет вроде весенней, а потом солнце накалится так, что в летней рубашке будет жарко».