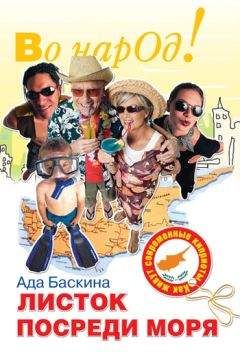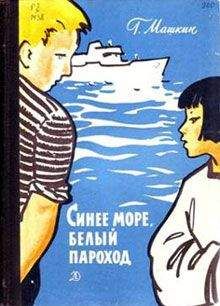Тамаз Годердзишвили - Гномики в табачном дыму
Я увлекся едой и не заметил, как подступил к моему столику Тандарух с армией официантов. Пока я соображал, как быть, оказался в осаде. Официанты с трудом удерживали подносы со всевозможными блюдами и всевозможными винами.
— Не обижайся, сегодня я угощаю. И не тебя одного, а всех посетителей, — пояснил Тандарух. — Ресторан по плану две тысячи должен давать в день. Когда ты вошел, я велел запереть ворота — никого больше не впустят. Я знал, что придешь. Люблю поговорить с тобой. Честный ты человек, справедливый — вот почему. На всяких своих приятелей, прямо тебе скажу, мне наплевать. С ними у меня каждый день кутежи, они без меня за стол не сядут, но я с тобой предпочитаю. Вижу, надо жить по твоему примеру. Потому и хочу повиниться, извиниться за себя и мне подобных… Я пьян и запросто выложу, что накопилось на душе.
Тандарух подал официантам знак, и они освободились наконец от тяжелых подносов. Потом он указал мне на невзрачного человека и продолжал:
— Вот тот тип помешал. «Я человека одного, говорит, пригласил — дельце через него провернуть, и собирался угостить, а официант говорит — за все уже уплачено! И все провалилось. Не мог же я за счет черт знает кого устраивать свои дела! Я должен был угощать!.. Не обижайся, если уважаешь хоть немного. Сколько может, скажи, пожалуйста, съесть и выпить один человек, чтобы не суметь за него уплатить, но… Но сегодня я угощаю, я принимаю гостей… Ешь на здоровье, да пойдет тебе впрок… А я жду ночного стука в дверь: боюсь, вдруг да будет не в духе и не возьмет, или мало покажется, сколько собираюсь дать. Они без предупреждения заявляются, в середине ночи; хорошо, если до того инфаркт не хватит. А вообще-то и ты не агнец, не мни себя невинным. Но ты не совершал ничего такого, чтобы тобой ОБХСС заинтересовался. Тебе другой суд предстоит. Я-то верю — ты и в том невиновен, в чем обвиняют. Потому и хочу покаяться, оправдаться перед тобой! Знай, не легко будет очистить то, что мы поганим сейчас, оскверняем с помощью денег. Понимаю, хорошо понимаю, да плююсь. А потом, знаешь ведь, какая у меня цель? Прямо в душу! Прямо в душу! Ты пойми, это тоже азарт, игра, алкоголь, морфий… Какая разница? Поэтому извиняюсь за все. Ради хороших стихов и рассказов, хороших фильмов и спектаклей, хороших произведений и открытий, которые делаете вы, ты и твои друзья, и которые я не читал, не видал, даже не слышал о них! Времени нет, столько времени уходит на это окаянное дело! Работаю, а нет — так пью, кутежи устраиваю, и ведь не развлечения ради — опять же ради дела! И потому еще винюсь, что рядом с твоим чистым столом со стопкой белой бумаги стоит мой грязный стол, заваленный грязными купюрами. Знаю, ты больше других нуждаешься, но тебе я не даю. А ведь все берут, кому даю. Грузинское самолюбие позволяет им это. Ты-то вряд ли возьмешь… Не говори, что можешь взять, не то вторично умру (этого слова — вторично — он, по-моему, не произносил!).
Тандарух напился и оставил свою машину у ресторана на попечении сторожа, тот остановил для нас «левую» машину.
— К последнему дому! — велел Тандарух водителю, когда мы выехали на крутую окраинную улицу.
Вытащив из багажника два ящика шампанского, Тандарух поднялся по лестнице. Силища у него была неимоверная, шутя нес тяжелые ящики. Он еще подходил к подъезду, когда из одного окна выглянул мужчина, привлеченный шумом машины, и тотчас скрылся, увидев Тандаруха.
— Мосэ! — крикнул Тандарух. — Мосэ, открой, пожалуйста!
Дверь открылась, и вышла какая-то уродина. У подъезда было темно, но женщина оказалась исчадием ада и пылала, как факел, поэтому я узрел ее. Она говорила много и долго. Тандарух терпеливо внимал. Кому позволил бы он, будучи не совсем трезвым, наставлять и вразумлять себя, но эта женщина… Тандарух очень почтительно попрощался с ней, галантно поцеловал руку. А ведь он не то что руку целовать — внимания не обращал даже на красивейших женщин, они за ним бегали, в глаза заглядывали, не сорвется ли ласковое словечко. Он любил сам выбирать женщин. Но эта особа была, как видно, женой Мосэ, а Мосэ — «генеральный директор» Тандаруха. Так что… Вернулся сконфуженный, униженный, лица на нем не было. Оба ящика положил рядом со мной, а сам уселся с водителем.
— Давай к Дигомскому массиву! — велел он шоферу и вооружился бутылками.
Великолепное было зрелище! Толстые бутылки осколками разлетались по асфальту и по газонам; пенилось шампанское, радужно сверкали и вспыхивали брызги в лучах лампионов. Тщетно пытался я остановить Тандаруха. Чувствовалось, он воевал с кем-то и одерживал победу.
Раз десять доезжали мы из Дигомского массива до проспекта Руставели. За каждый круг водитель получал трехрублевую. Не знаю, где достал Тандарух столько трехрублевок. Я не уговаривал его ехать домой, ждал, пока он уймется. Трезвый как стеклышко, я легко переносил его пьяные выходки, равнодушно сносил даже ругань и насмешки. Наконец он выбился из сил, и тогда я велел водителю не возвращаться больше в центр. Тандарух не возразил, будто не слышал.
— Манана! — заорал он, узнав свой дом.
Жена дожидалась его у подъезда и вмиг очутилась возле нас.
— Забирай Тандаруха, кончилась битва, — сказал я Манане.
Тандарух молча выбрался из машины.
Летняя ночь дышала теплом.
Манана была в очень открытом платье, не в меру глубокий вырез обнажал грудь…
Из «Золотого руна» я поехал домой. Медленно катилась моя машина. До чего тяжко возвращаться домой, если никто тебя там не дожидается! А скрип ключа в замочной скважине вконец портит настроение. Но сейчас, после вкусного обеда в ресторане, я еще бодрюсь. Как мало нужно порой человеку и какие радуют его пустяки! Почему? Не знаю, не знаю… Интересно, сумеет ли человек когда-нибудь познать себя лучше, чем сейчас? По-моему, настало время; по-моему, сейчас каждый обязан изучить себя, проникнуть в самую глубь своей души и откровенно, громогласно объявить — я таков! И нечего стыдиться! А может, и нет ничего зазорного? Во всяком случае, есть куда отступать (малодушным, разумеется), есть чем оправдать себя — гены! (Каким запрограммирован в генах, таким я и получился, дорогой!) Но что кроется в генах? Какие физические и интеллектуальные возможности? Есть ли пределы у человеческой фантазии?
Я прилег на низенькую тахту. Тишина! О какая жуткая тишина в этой комнате…
Прости меня, прошу, прости. Успокойся, выслушай спокойно и, если не поверишь, тогда плачь. Умоляю, прости, что и другим даю заглянуть в твою душу, но я столько пережил, так устал от одиночества, от леденящего одиночества, пустынного, колючего одиночества… Кто только выдумал это слово… Прости, на коленях прошу. Пусть все знают, что и я был полон радости, восторга, помешан, пусть все знают, что ты даровала мне эту радость, сама того не ведая, моя глупышка, сама не желая того! (Не бойся — этого я никому не скажу.) Ты сама не понимала, что писала мне. И сейчас не понимаешь, что написала. Хоть ты поверь (почему-то всем кажется, что я рожден под счастливой звездой!), хоть ты поверь — говорю тебе откровенно: за всю мою жизнь у меня одна эта минута и была светлой… Боюсь сказать — счастливой, боюсь сглазить, боюсь — как бы написанное тобой не оказалось обманом:
«Случалось ли тебе поймать на удочку маленькую рыбешку? А потом, продернув ей в жабры прутик, опустить снова в речку, давая подышать еще немного, пока ты продолжаешь сидеть и удить? Приглядывался ли ты к ней? То достанет ее вода, то — нет. Вот и я теперь так. Мучительно больно от «прутика», трудно дышать. Трудно, и все же дышу, когда достает вода. И куда ни гляну, все такие же рыбки мерещатся. Не говори, что есть какая-нибудь разница между нами! Я так люблю тебя… Так люблю… Так люблю… 1973 год, 12 апреля».
Какая тишина…
Стоит мне прилечь, как мама тотчас присаживается у моих ног. Редкая у нее память. Наизусть помнит все, чему выучилась за несколько лет в гимназии (два-три года училась — рано осиротела, и пришлось содержать семью). Свет не включен, в комнате сумеречно и как-то тревожно. Мама тоже не находит себе места. Знаю, она сейчас затянет свою песенку. Она всегда поет ее. Первую песню, которую я от нее слышал. И помню, увидел на глазах у нее слезы. Я был совсем мал, и слезы мамы не тронули меня тогда. А сейчас при виде ее слез вся душа переворачивается, сердце сжимается от боли. У мамы чуть приметно подрагивает подбородок:
Один-одинешенек, сирота
сидит и горько плачет,
нет у бедняжки матери…
— Хватит, сколько можно! Знаешь ведь, не выношу эту песню, — ворчу я как можно деликатней. Повышать голос нельзя, тогда она действительно заплачет. Не помню, чтобы я позволял себе кричать на нее… (Хотя нет, помню, был единственный случай, но… но — не помню…)