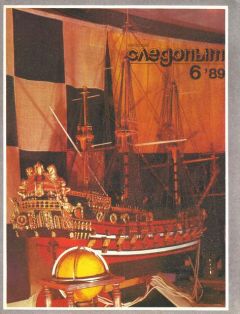Сергей Малашкин - Записки Анания Жмуркина
— Служивый, бороду-то надо снять. Вы до того запустили ее, что в ней пес запутается. Одни только глаза светятся из нее. Да еще разве пуговка носа. Не люблю неряшливых мужчин. Для солидности, что ли, бороду-то отпустили? — и она окинула насмешливым взглядом мою крошечную фигуру.
Я смутился, закашлялся. Сказать по совести, я не ожидал, что она способна, будучи мало знакомой мне, начать такой разговор о моей бороде и хулить ее. Откашлявшись, я робко запротестовал:
— Серафима Петровна, что это вы сразу накинулись на мою бороду? Если она нравится мне и удобна…
В коридоре раздался звонок, и я не закончил фразы. Арсений Викторович вышел встречать гостей. Игнат Лухманов, Прокопочкин и Синюков разговаривали с Ольгой Петровной. Серафима Петровна улыбнулась, сказала:
— Не обижайтесь. Я привыкла говорить в глаза то, что думаю. Многие говорят, как я знаю, совсем не то, что думают. Я не из таких… И я скажу вам еще раз: борода у вас гадкая. Она не подходит к вам: больше вас.
Я пожал плечами, но не рассердился на женщину, привыкшую говорить то, что думает, а не то, что не думает, в глаза собеседнику, который ей даже мало знаком и совсем незнаком.
— Арсений часто рассказывал мне о вас… Говорил, что вы интересный… много видели, начитаны невероятно. Вы, судя по вашей бороде, не проповедуете ли какую-нибудь веру? Это теперь модно. — Она говорила это, как показалось мне, серьезно, и глаза ее и ямочки на лице смеялись, и я не мог сердиться на нее.
Я молчал. Слушал. Да, не сердился. Но от слов Серафимы Петровны мне все же стало грустно и обидно. Слушая ее, я вспомнил свое детство, юность и отрочество и сказал про себя: «Бродяга». Так земляки, знающие коротко меня, — я ведь из деревни ушел десятилетним мальчиком, — понаслышке называют «бродягой», «грамотеем», «крамольником» и «безбожником». А моя сестра называет ласково и насмешливо меня «скубентом». Сестра?.. Я не сержусь на нее: люблю. Да и она знает то, что я не бродяга… А студентом был… С четырех лет я научился грамоте, пристрастился к чтению… И жажда к книгам, к учению не угасает во мне и теперь, с каждой минутой становится все сильнее. И не один раз я прошел вдоль и поперек Россию. И Россия была для меня книгой, да еще какой… И я прочел какую-то часть ее, и она помогла мне в моем развитии, в понимании жизни. Я хотел было сказать об этом Серафиме Петровне, но, взглянув на ее смеющиеся лукаво ямочки щек и черные, как угли, глаза, раздумал. Раздумал, признаюсь, не потому, что она не поймет меня так, как надо, или не поверит мне, а только потому, что на этот рассказ потребовалось бы много времени. Кроме того, у меня не было никакого желания быть нелюбезным с Серафимой Петровной — обрывать ее бойкую и чуть насмешливую речь. Серафима Петровна долго говорила обо мне, о моих скитаниях, но в ее словах, как я уже сказал только что, имелось много неправильного и фантастического. Не перебивая Серафиму Петровну, я покорно и терпеливо слушал и молчал. Я заговорил только после того, как она серьезно и неожиданно для меня перешла к другой теме.
— Ананий Андреевич, знаете что, — проговорила она твердо, — вас совсем не отпустят… и вы, наверно, пробудете в какой-нибудь казарме месяц, а то и два.
— Возможно, — проговорил я. — Пошлют в команду слабосильных, а может, по чистой.
— Я стану ходить в гости к вам, — не слушая меня, пообещала Серафима Петровна, — конечно, по воскресеньям и только изредка в будни. И вы введете меня в общество своих товарищей. Согласны?
Ольга Петровна обернулась к сестре:
— Сима, что ты взялась мучить Анания Андреевича? То борода его не нравится тебе…
— Противная у него борода.
— Постой! То в гости напрашиваешься к нему… Нехорошо это!
— А к кому же мне ходить в гости, как не к нему?
— Ананий Андреевич, идите сюда, на диван, — позвала Ольга Петровна.
— Нет, сестра… Я не отпущу его от себя, — рассмеялась женщина. — И в гости буду ходить к Ананию Андреевичу, только с большого разрешения.
Ольга Петровна, Прокопочкин, Синюков и Игнат Денисович загадочно улыбнулись. Улыбнулся и я, подумав: «Неужели она знает, кто я по убеждению?» Из коридора кто-то из гостей открыл дверь, и из нее показались два лица, молодые и серьезные. Хозяйка встала с дивана и весело направилась к ним. Гости открыли шире дверь и шагнули вперед. На одном пальто с каракулевым воротником, котелок. На другом синий костюм, — он уже разделся и пальто повесил на вешалку. Остальные раздевались. Раздался еще звонок. Хозяйка пошла открывать, увлекая за собой от порога гостей.
— У нас, в Риге, так не одеваются чисто рабочие, — сообщил Синюков. — Может, это служащие? Из конторы?
— И не служащие и не из конторы, — пояснила Серафима Петровна, — а самые настоящие питерские пролетарии — токари и слесари с Путиловского и… — Она не докончила, так как из коридора вошли шестеро гостей и, поздоровавшись с нами, стали усаживаться на свободные стулья.
XVIIIГости, как и Арсений Викторович, были одеты в отличные костюмы, на всех были крахмальные сорочки. Трое — одних лет с Арсением Викторовичем, со мною, остальные много моложе. Их прекрасные костюмы и сорочки меня не удивили, как Синюкова; я знал, что питерские рабочие — это европейцы, цвет русского пролетариата, не то что москвичи, которые по одежде смахивали на крестьян и на чернорабочих по обличью. О сормовичах, орехово-зуевцах, о туляках и говорить не приходится — они своей одеждой почти не отличались от местных крестьян, а также от жителей уездных городков. Они отличались мало и говором от сельского и пригородного населения. Нижегородцы, например, окали. Туляки произносили слово мягко. Они уже не скажут «идет», «пьет», как нижегородцы, а скажут «идеть», «пьеть». Питерские рабочие не говорили на «о» и не произносили слова по-тульски-орловски мягко, с окончанием на «ь», а говорили твердо, правильно, литературно. Вернулся хозяин и, улыбаясь и потирая большие мозолистые руки, но чистые, как бы отлитые из самой доброкачественной светлой меди, сказал:
— Мы, друзья, все в сборе. Прошу в столовую.
Мы поднялись и друг за другом, цепочкой направились к двери. Хозяин, потирая руки, с радостной улыбкой пропускал нас мимо себя. Когда мы вошли в другую комнату, которая была раза в два больше первой, вошел за нами и хозяин. Ольга Петровна усаживала гостей за большой стол, на котором стояли тарелки с закусками — колбасой копченой, чайной — от нее тонко пахло чесноком, тарелки с ветчиной, с хлебом черным и белым, бутылки с пивом, вином и два граненых графина с первачом, настоянным на лимонных корочках и на майских листьях черной смородины.
— Приятно, — проговорил один из гостей. — Ни одно гороховое пальто, если войдет, не подумает, что мы крамольники.
— Арсений Викторович сумеет создать обстановку. Он в этом деле великий мастер, — похвалил Рыжиков.
— Не скажи, — улыбнулся Исаев и откинулся к спинке стула, — непрошеные гости сразу увидят, с кем они имеют дело. Твоя личность, наверно, им хорошо известна. Думаю, никакими лимонными корочками не затуманишь им очи. Не будем говорить о них! — Он улыбнулся, подкрутил колечки светлых усов на смуглом, сухом лице.
— Да уж полиция и жандармы интересуются рабочим классом, — заметил Володя Карнаухов, молодой тонколицый рабочий со светлыми волосами и голубоглазый, — а вот писатели…
Гости и женщины подняли глаза на него.
— Что писатели? К чему ты вспомнил их? — спросила Серафима Петровна. — Хочешь, чтоб они писали о тебе?
— Конечно, — возразил горячо Володя, — и о других рабочих, — и его лицо зарделось, а глаза засверкали огоньками. — Даже очень хочу. Я вчера закончил читать роман известного писателя. Он описывает Петербург. Понимаете, товарищи, у него в романе герои чиновники, дворяне, купцы, студенты… и ни одного рабочего. И выходит по его роману, что дворяне, чиновники и студенты — Петербург, Россия. О рабочих этот писатель не говорит ни одного слова, будто их не существует в Петербурге, в России. Мы, понимаете, будто и не Петербург, не Россия.
— Врет твой писатель. Плюнь на такого писателя!
— Не мой, — возразил печально Володя, — и это досадно. Пишет здорово, талантливо. Вот потому-то и обида сильная у меня на него. Он, этот писатель-то, должен знать, что мы, рабочие, — Петербург, что мы, питерский пролетариат, — Россия, а не дворяне и чиновники.
— Этот писатель, если не понимает того, кто хозяин страны, плохой писатель, — заметила Серафима Петровна.
— Именно, Сима, так. Отлично сказала, — подхватил Исаев и обвел белесыми глазами собравшихся и, вздохнув, предложил: — Не знаю, как вы, а я пропустил бы рюмочки две-три за пролетарский Питер, за Россию… и, конечно, за упокой монархии и всех тех, кто ее поддерживает. Кто за мое предложение, тот друг и борец.
— Ну, это ты, Семен Яковлевич, перегнул, — возразил Карнаухов. — По-твоему выходит, что если я не пью, то я не друг тебе и не борец? Не согласен.