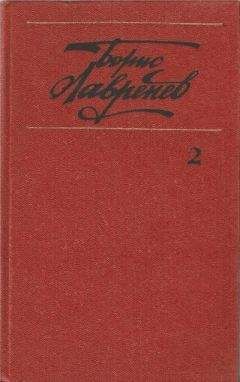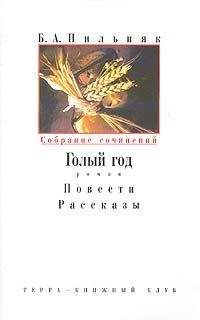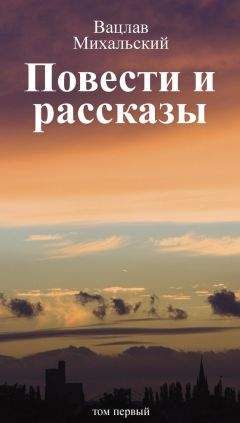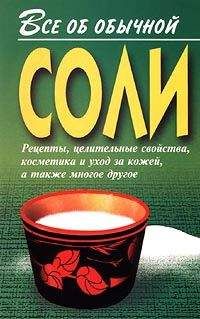Борис Лавренёв - Собрание сочинений. т.1. Повести и рассказы
Она закашлялась и отвела рукой свисшую прядь волос.
— Ну а дальше известно, какая у нашей сестры дорога? Работа вся стала, народ друг на друга пошел, устроиться негде, и пошла я по рукам гулять, девкой похабной стала. Жжет меня мука мученская, тоска давит, Севушка! Так и погибнуть, любви не знаючи, проклятой, заплеванной? Страшно мне, Севушка!
Юнкер почувствовал разрывающее волнение, стыд, боль. Он крепче сжал худые, мечущиеся руки. Искал каких-то необыкновенных слов, но сказалась самая пустая, ненужная фраза, от которой он болезненно съежился:
— Бедная детка!
Но она обрадовалась и этом жалким словам, как живоносному источнику.
— Спасибо, миленький! Не жалость это, жалости не прошу. А за доброту, за сердце чистое твое спасибо. За то, что слушаешь, в ноги тебе поклонюсь.
Она склонилась головой к сапогам юнкера. Он испуганно встал.
— Настя! Настенька! Что ты? Не стою я! Дрянь я такая же, как и все!
Она почти крикнула:
— Нет!.. Нет! Не смей! Ясный ты. Разве не видала я, как тебя воротило от голых в кабаке проклятом. Душа у тебя… человечья душа, живая. Понимаешь, что на смерть идти светло надо, с верой. Оттого и погибнешь. Все такие гибнут. Смерть твою чую, Севушка! Защитить хочу, а нет у меня силы.
Юнкер взволнованно прошелся по комнате.
— Почему… зачем ты мне смерть предсказываешь?
— Не предсказываю — знаю. На смерть идешь. Много вас идет против народа, а народу сила, миллионы. Не осилите вы, все до единого погибнете. Так тех, что голяком перед смертью похабничают, не жалко мне. Знают, что за похабство свое дерутся, за водку, за то, чтоб над такими вот девками, как я, измываться, деньги грабить. А ты за что? Голубь ты ясный, младенчик светлый. Не ихний ты, ошибка тут страшная. Тебе туда надо, к народу! Душа у тебя открытая, совестливая!
— Ты что же думаешь, там лучше? — спросил, вздрогнув, юнкер.
— Лучше, лучше, миленький! Люди там правдой горят, за правду бьются, за нас, девок срамных, чтоб нас от смерти воззвать, в жизнь впустить, омыть похабство земное, матерями, женами стать нам позволить, язву нашу выжечь. Хорошие там! Брат мне еще в Питере рассказывал про это, про революционеров, которые царей убивали. Брат мой, Ромушка. Вон он над кроватью висит. Был бы здесь — вызволил бы меня из срама.
Она уткнулась лицом в потертый плюш дивана и разрыдалась, вздрагивая острыми лопатками.
Потрясенный, пробитый болью, юнкер склонился над ней.
— Настя! Настенька! Что ты, не плачь! Встань, — не нужно. Ну, что делать? Я помогу чем можно. Скажи только — как?
Девушка быстро встала и вытерла глаза. Усмехнулась виновато и тепло.
— Напугала я тебя, Севушка? Глупая я, больная, шалая. Не буду больше, — и помогать мне не надо. Садись, посиди со мной последнюю ночку.
Она усадила юнкера и села рядом. Приблизила лицо с исступленными глазами.
— Не стану ныть! Смеяться буду, радоваться тебе, гостю моему любому Как увидала тебя в кабаке против себя за столом, будто по мне мололья полыхнула. Вижу, мой сидит, мой жданный, суженый. Вот и привела тебя к себе. Никто, кроме тебя, в эту комнатку не входил. Ты сокол ясный и комната моя ясная, и сама я сегодня девушка-первинка. Севушка, бастенький мой, сероокий. Приласкай меня, не побрезгуй. Не гляди, что шлюха я, что девка последняя. Это для тех, а для тебя нетронутая, непочатая. Все тебе отдам, сердце мое болезное, душу, тело, вся в руках твоих, лаской изойду за одну эту ночку Люби меня, Севушка, несколько часочков только, а мне всю жизнь вспоминать тебя, голубя. Оба мы с тобой пропащие, нежилые.
Она быстро рванула воротник гимнастерки юнкера и стремительно зацеловала его в шею короткими, буйными поцелуями. Вскочила, погасила лампу и приникла к его губам. Юнкер задохнулся от жалости, боли и еще какого-то неназываемого, лишающего сознания терпкого волнения, вздохнул глубоко и жадно и, закрыв глаза, любовно встретил пьющие душу пересохшие губы.
Медленно серел квадрат окна, пересеченный черным крестом рамы, шурша ветром пролетала за окнами весенняя ночь.
В эту ночь кровь юнкера Всеволода Белоклинского и кабацкой девки Насти Руды, невесты непорочной, впервые узнавшей любовь, исходившей в смертельной ласке, — одной стала кровью, связала двоих кровным неразрывным узлом.
12Стекали на степь с жаркого неба жидким серебряным паевом майские дни.
Никли пуховые веники ковылей, исходили степи дыханиями горькими и сладкими.
Были майские дни теми днями, когда рассыпались прахом лавины белых, малиновых, синих фуражек, покатились назад к морю Тмутараканскому.
Дышали дни нерукотворными легендами о черноусом Семене Будённом, что, наполнясь ратного духа, повел полки свои на разбойную землю половецкую, за красную Русь.
С гомоном, с песней лихой, с неистощимой силой летели полки в половецкие степи.
Суровы были бойцы, взрощенные трубными зовами, взлелеянные под богатырками, вскормленные стальными жалами пик, были им ведомы все дороги и знакомы овраги, крепко натянуты поводья, метки винтовки и отточены сабли.
И скакали полки, как серые волки в поле, ища себе чести, а красному краю славы.
Загородили они сердце страны багряным блеском знамен, звоном клинков, конским тяжким топотом.
И тогда в Русской земле редко выходили на ниву пахари, но часто каркали вороны, деля меж собой трупы, и поднимали стрекот галки, сбираясь лететь на покормку.
Густо усеялась степная пахучая целина костями под конскими копытами, полилась кровью, — возрастала же щедро печалью по всей стране.
И у устьев великого Дона сходились в смертной ненависти трудовая красная рать и разбойная кочевая рать половецкая.
Катался круглыми волнами над степями пушечный гром, в потревоженном небе клекотали степные орлы.
И с одной стороны искал смертной встречи с вражьей ордой сводный курсантский полк, а с другой — кавалерийский юнкерский полк «бессмертных».
И пока метались курсанты по ковыльным берегам тихого Дона, ловил Роман ненасытно и неустанно вести о брате-враге, о брате-кровнике, письмо к которому лежало во внутреннем кармане гимнастерки, рядом с выпиской из книги о браках, в которой отмечено было, что марта второго дня зарегистрирован, под номером сто тридцать седьмым, брак курсанта Романа Руды, двадцати семи лет, рабочего слесаря, с Белоклинской Анной, дочерью полковника, двадцати трех лет.
Каждого пленного офицера с жадной пытливостью допрашивал Роман об Аннином брате, но ни разу не услышал в ответ: «Знаю».
Письмо продолжало лежать в гимнастерке, и серый казенный пакет протерся, пропитался потом.
А Всеволод Белоклинский носился со своим полком по степным небитым дорогам, нося в душе смятение, тревогу и отчаяние.
Часто вспоминал последнюю исступленную ночь, жаркоглазую Настеньку, отдавшую ему любовь нетронутую, бесконечную, смертельную.
И помнил еще слова Настенькины: «На гибель идешь, голубь! Смерть твою чую — не живут такие».
Помнил и ждал смерти, потому что не было у него ни дома, ни родины. Была пустота, сомнение и растерянность.
Только в кожаном бумажнике с серебряной монограммой носил маленькую записку, а в записке стояло: «В случае моей смерти прошу сообщить по двум адресам: Город Т., Монастырская улица, дом 2. Варваре Сергеевне Уральцевой для Анны Белоклинской, и еще: Ростов, Темерник, дом Дедюлиной, Анастасии Петровне Руда. Очень прошу это сделать. В. Белоклинский».
О брате Настенькином Романе ничего не знал Всеволод Белоклинский, и только запомнились ему пристальные и твердые глаза на фотографии над кроватью.
Стекали с неба на степной чернозем плавленые дни, зажигали в сердцах ярость и ненависть.
И встретились двое на берегах мутноводного Мамыча.
Сошлись красные конники и разбойные половчане для смертной встречи у речного быстрого тока.
С утра до вечера, с вечера до златопламенной зари летят кусачие пули, гремят встречно клинки, трещат пики в незнаемом поле, посреди половецкой земли.
На Маныч-реке не снопы стелют, — головы; молотят стальными цепами, на току кладут жизни, веют души от тел.
Кровью покрыты берега Маныч-реки, не зерном засеяны, засеяны костями ратей.
Бились день, бились другой, на третий пали штандарты с георгиевскими лентами, поволочились в густой пыли.
По следу уходивших половецких конников бросились конники вольного красного края. Но волками огрызались, уходя, последние, скалили гнутые свистящие клыки шашек.
И на закраине станицы встретились двое.
На обходившие с фланга курсантские эскадроны была брошена лавой последняя надежда врага, полк «бессмертных».
Было где разгуляться на гладком степном ковре.
Заломив фуражки, всадив шпоры коням, понеслись юнкера отчаянным карьером в атаку. Не дрогнули запыленные серые эскадроны и, только переменив направление навстречу атакующему, развернулись и по команде: «Карьером, марш-марш» — ринулись навстречу.