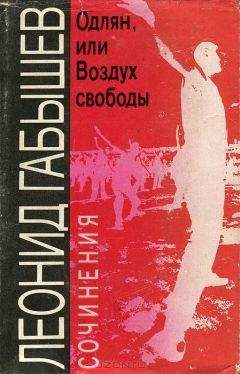Сергей Петров - Пора веселой осени
— Да зачем? Ничего ведь и нет, — попытался он отстранить ее руку.
— Ну, что вы, в самом деле, за человек такой? Скажите-ка мне… — она нетерпеливо сунула ему стакан ко рту. — Знаю я, как все бывает. Пейте без разговора.
Пришла из кухни ее мать и принесла только что вскипевший чайник с еще подрагивающей от пара крышкой. Достала из буфета матового стекла вазочку с вишневым вареньем, фарфоровые чашки, тонко нарезала ломтики хлеба и позвала всех пить чай. Усиленно угощала Андрея Даниловича, и он, смущаясь, не в силах был отказаться, пил чай чашку за чашкой, ел варенье, пока не заметил, что едят его только он да мальчишка, что на варенье уже образовалась твердая корочка и, значит, стоит оно в буфете давно и предназначено, видимо, специально для гостей. Тогда вконец засмущался и вскоре стал прощаться.
Перед тем, как уйти, незаметно поставил на комод флакон с духами.
В госпиталь он вернулся молчаливым, недовольным собой. Мысленно ругая себя за неуклюжесть, за скучность, вечером долго не засыпал и все ворочался в кровати; простыня комом закатывалась под бок, подушка казалась плоской, и он, чертыхаясь сквозь зубы, вставал, расправлял простыню, зло и сильно взбивал кулаком подушку. К полуночи притих, успокоился. Лежал на спине и клялся, что завтра, когда она придет, он будет другим — веселым и ловким.
Утром она, свежая, смеющаяся, заглянула к ним в палату задолго до обхода.
— Ну как, много вчера симпатичных парней в городе видели?
— То есть?.. — не понял Андрей Данилович.
— Как же так? — удивилась она. — Вы же специально конкурировать прибыли. В парадной форме.
— А-а… — вспомнил он и буркнул: — Что-то не замечал.
— Бедный город. Несчастные девушки, — вздохнула она.
И он не нашел, что ответить.
Все лето он ходил к ним домой. Возле подъезда руки и ноги у него слабели, холодела спина, но он упрямо поднимался на третий этаж, ждал со стесненным дыханием, когда откроют, а потом, дивясь на себя, больше разговаривал с ее матерью или рассказывал про войну ее племяннику и страшно боялся остаться наедине с ней. Смутными, удивительно неопределенными были те дни его жизни. Он стал рассеянным и часто задумывался. О чем?.. На это он и сам не смог бы точно ответить: путаными были его мысли, расплывчатыми. В библиотеке госпиталя он прочел стихи: «Под березою был похоронен комбат. Мы могилу травою укрыли… В ствол березы ударил снаряд, и береза упала к могиле». И хотя раньше он не любил стихи, не очень-то их понимал, сейчас от жалости к книжному комбату у него вдруг проступили на глазах слезы. Он даже вздрогнул и осмотрелся с испугом: не видит ли кто?
Он полюбил вставать ночью. Накидывал, как халат, на плечи мягкое байковое одеяло и тихо, боясь разбудить соседа, подходил к окну, тянул на себя створки и подставлял грудь под струю прохладного воздуха. Далеко вокруг виднелись редкие огни работавших по ночам предприятий, и с пятого этажа казалось, что это звезды отражаются в черной воде. Он смотрел в эту черную воду, на эти желтые звезды, удивляясь и тому, что привела его война именно сюда, в далекий от родных мест город, и непонятной своей душевной мягкости, слабости.
Долго Андрей Данилович робел, терялся перед ней, бормотал невесть что, пытаясь поддерживать разговор, по-мальчишески краснел от этого бормотания и еще больше терялся, но вот как-то гуляли они по городу, проходили мимо кинотеатра, и он — только ради того, чтобы просто молча посидеть с ней рядом, — предложил:
— Посмотрим, может, кино?
— Да ведь билетов не купим, — ответила она.
Усадив ее на скамейку в небольшом сквере с желтыми дорожками, низко подстриженными кустами акации и с сухим, без воды бассейном, он пошел в кинотеатр. В зале от касс до самых дверей тянулась очередь. Он пристроился в конце и тут услышал:
— Товарищ военный, берите билет.
Говорила красивая женщина, вторая в очереди. Высокая, она стояла, чуть прогнув спину и подняв грудь, словно голову ее тяжеловато оттягивали уложенные на затылке темные волосы.
Он шагнул к кассе.
— Берите, берите, — повторила женщина.
Люди в очереди потеснились и освободили проход к квадратному окошечку, глубоко запавшему в толстую стену. Покупая билет, он увидел, как женщина стрельнула искоса на него глазами, заметил внимание окружающих и внезапно будто заново обрел свой высокий рост, услышал на груди легкий звон орденов, ощутил на плечах капитанские погоны. Радостно сказал:
— Спасибо! — и весело зацокал подковками сапог по кафельным плиткам пола.
Алла Борисовна удивленно поднялась навстречу.
— Так быстро…
Он подошел и крепко взял ее под руку. Рука ее деревянно напряглась под его ладонью. Глаза широко открылись и затуманились. Притихшей, отрешенно блуждая по толпе взглядом, стояла она в фойе перед началом сеанса, но когда зазвенел звонок, вдруг близко придвинулась к Андрею Даниловичу, тихо, взволнованно засмеялась и шепнула:
— А на вас женщины смотрят.
4
Осенью его выписали из госпиталя и направили командиром батальона в запасной полк, формировавшийся в лесу, километрах в ста от города. Дни долго стояли ясными, небо было стеклянно-прозрачным, а воздух свеж и сух. Жил он в землянке. Багровые листья, опадая с деревьев, заваливали ее сверху, и землянка выпирала из пожухлой травы пламенно-красным бугром.
Ближе к зиме, когда лужи возле солдатского умывальника на вытоптанной до голой земли поляне стало затягивать по утрам паутинно-тонким льдом, Андрей Данилович узнал, что полк скоро уходит на фронт.
Взяв на два дня отпуск, он поехал в город прощаться. Погода испортилась с вечера, и на вокзале, едва он вышел на перрон из духоты переполненного вагона, его обдало мозглым холодом. Дул ветер и падал сырой, с дождем, снег. В знакомом подъезде было грязно и сумеречно, запыленная лампочка почти не давала света, и не понять было, вечер ли на дворе или пока день. Дома была только Алла Борисовна. Она открыла дверь, впустила его в комнату, а сама забралась с ногами на диван и закутала плечи старой шерстяной шалью.
— Сводки с фронта опять плохие, — сказала она так, будто он не мог знать этого, и пожаловалась: — От брата давно нет писем.
Она часто пошвыркивала носом и выглядела замерзшей и обиженной. Лицо ее посинело от холода.
Комната, действительно, выстыла: чугунная печка «буржуйка» с длинной, углом изогнутой трубой, выходящей на улицу через забранную листом железа форточку, чадила, но грела плохо.
— Что же она так вяло горит? — кивнул он на печку. — Растопить бы надо.
— Ах, да топила я ее, топила… Так ведь не горит.
У печки стояло ведро с углем. Уголь мелкий, почти порошок, такой может разгореться разве что на сильном огне. Открыв дверку, Андрей Данилович заглянул в беловатое от дыма нутро печки и усмехнулся: она накомкала туда бумаги, подожгла ее, сверху насыпала уголь. Вот и чадит «буржуйка», не греет.
— Дрова у вас есть? — спросил он.
— Есть немного. Там… В ванной. Поленья какие-то сучковатые, и топором их не расколоть, и в печку они целиком не влазят.
— Ладно. Как-нибудь справлюсь.
Настругав щепы, он соорудил из нее над бумагой шалашик. Водой из кружки опрыскал уголь в ведре и подбрасывал его на огонь мелкими порциями. Круглые бока печки скоро зарумянились и стали словно прозрачными. Потом зарделась и труба. Андрей Данилович открыл дверцу. Стена комнаты и черный комод бордово осветились, краснота с трубы и с боков «буржуйки» опала, и сразу стало теплей и суше.
— Хорошо, — повеселела Алла Борисовна. — Приезжайте почаще, будете топить печки.
Сидя на корточках, он смотрел, не мигая, на огонь и долго не отвечал. Наконец сказал:
— Больше я, возможно, и не приеду.
Она удивилась.
— Почему? — и голос у нее дрогнул. — Или… Вас отправляют на фронт? Да?
Он молча пожал плечами: говорить-то было не положено.
— Вот дура… Как же я сразу не догадалась? Смеюсь тут… — она легко спрыгнула с дивана и порывисто прошла к нему, присела рядом на пол. — Верно? Я догадалась? Да?
Лицо ее от огня розовело. Огненные блики из печки падали и на подол платья, и на руки, охватывающие колени.
Андрей Данилович насупился, но промолчал. Тогда она сказала, покачав головой:
— Верно… А когда?
И он не выдержал, ответил:
— Скоро, — и повернул к ней голову.
Расцепив скрещенные на коленях руки, она мягко подалась к нему, коснулась его плечом и провела по его щеке теплой ладонью. Силясь сдержать дыхание, он наклонился, скользнул губами по ее лбу, по виску, неуклюже коснулся ее полуоткрытых губ и по-детски сунулся лицом ей под скулу, к нагретой шее.
Ночевал он у них. Утром проводил ее в госпиталь и весь день без цели бродил по городу; сам себе представлялся теперь другим, более значительным человеком. Даже поступь его стала важной, размеренной.