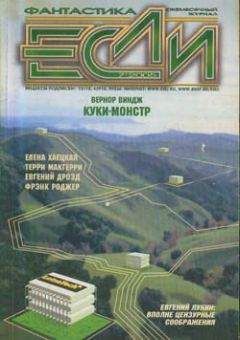Стремнина - Бубеннов Михаил Семенович
— А тут много было? — спросил Морошка.
— Нет, очень мало, — ответил Завьялов.
— Значит, не зря повернули земснаряд.
Но вот скребок загремел, заскрежетал, подцепил первую порцию мелко взрыхленной породы, но еще не так много, чтобы была нужда сбрасывать ее за пределами прорези. А вскоре скребок зацепился и за камень, и зацепился крепко, но Кисляев, ощупав его наметкой, доложил:
— Небольшой! Вытащим!
Вася Подлужный уже сидел на ящике из-под пороха в желтом скафандре. Вокруг него хлопотали взрывники: подпоясывали, вешали на грудь и спину грузы. Перед тем как спрятать голову под шлем, Вася, ухмыляясь, попросил друзей:
— Осторожнее. Прическу не попортите.
Все работали дружно, с огоньком, стараясь порадовать прораба своей работой.
— Качай! — скомандовал Кисляев рабочим, стоявшим у помпы, и крикнул водолазу в телефонную трубку: — Ну, как, все в порядке? Двигай!
Глубина была небольшой, но ведь надо было ползать по дну, чтобы застропить камень. Ощупав его, Вася попросил трос.
— Будь вода немного потеплее, мы его и без скафандра бы застропили, — сказал Уваров. — Нырнул разок-другой — и готово!
Ползая по дну, прося иногда добавить воздуха, Вася Подлужный гораздо быстрее, чем думалось Морошке, обмотал камень тросом, а через несколько минут взрывники подняли его краном и уложили на понтоне.
Медленно спускаясь, подняли еще три камня. Все они, как заметил Морошка, лежали по краям прорези, у основания откосов, где их трудно было подцепить черпаками земснарядов. Наконец, попался большой, непосильный для крана каменюка. Он тоже лежал у самого края прорези.
Прежде, когда рвали со спаровки, на такой камень бросали заряд из нескольких длинных мешков да и то зачастую мимо. Теперь же Сергей Кисляев, ощупав камень, сказал Морошке:
— Одного мешка хватит.
— Не взорвет, однако… — усомнился Морошка.
— Взорвет! Ты знаешь, как мы делаем? А вот погляди-ка!
Вася Подлужный поволок мешок с порохом в воду и, к удивлению Морошки, уложил его не на камень, как делалось раньше, а так, чтобы он облегал нижнюю часть камня с одной стороны, в виде подковы, как бы прижимая его к откосу прорези.
— Чудеса, — заметил Морошка.
— А ты гляди, гляди!
Сделали отпалку, и теплоход с катамараном, у которого скребок был поднят, спустился вниз по прорези. Арсений Морошка очень внимательно следил за тем, как произойдет взрыв. Он ударил не вверх, как бывало, а косо, и все камни полетели в одну сторону, за край прорези.
— Славно, — похвалил Морошка.
Вернулись к месту взрыва и опустили скребок. На него подчерпнули лишь с ведро взрыхленной породы.
— Ну, и славно! — совсем ожил Морошка. — Все остальное улетело…
— Соображают, — кивая на парней, сказал Завьялов. — Головы! Все сами делают.
— А смешно, когда говорят, что те волосатые оболтусы, какие копаются в своих душонках, как в мусорных ямах, и есть истинно мыслящие люди, — заговорил Морошка. — Кто работает с умом, кто додумывается, как лучше сработать, тот и есть, прежде всего, мыслящий человек. Тот и не копается в своей душе, а заглядывает в нее, когда надо, как в колодец.
— Теперь ступай на берег, — сказал ему Завьялов. — Поглядел — и хватит, а то весь взмок, еще продует.
— А вы здесь, да? — обиделся Морошка. — Да и мне здесь делать нечего.
— Идемте, Арсений Иваныч, — позвала и Геля.
Морошке пришлось согласиться: он в самом деле быстро ослаб. Обращаясь к Кисляеву, который, по сути дела, уже замещал погибшего мастера, сказал:
— Ты тут командуй…
— Он и так командует — терпения нету, — заметил Вася Подлужный. — Григорий Лукьянович поглядывает себе спокойно, а он то и знай орет во все горло… — Подлужный, вероятно, одним из первых пришел в себя после аварии, и у него уже чесался язык. — Самозванно стал тут за старшого.
— Какой я тебе самозванец? — возразил Кисляев почти сердито. — В бою выходит из строя командир, и любой может принять на себя командование. И никто не назовет его самозванцем. Ну, и у нас боевое дело. Так что я буду командовать, а ты подчиняйся и терпи.
— Дожили, — проворчал Вася Подлужный.
Над шиверой, заглушая голоса парней, пронесся гудок теплохода. Мимо проходил, прощаясь до будущего лета, еще один караван. Арсений вспомнил о Белявском и заторопился на берег.
Узнав от Сысоевны, что Белявский так и не появлялся на брандвахте, Арсений Морошка, хотя и не совсем еще окреп, скорым шагом поднялся на обрыв. Мать выглядывала в окно прорабской.
— Тревожится, — сказал Морошка Геле.
Мать встретила его на крыльце и кинулась к нему, как бывало после долгой разлуки:
— Ну, как ты, сынок, устал, чать?
— Что ты, мама? — заговорил Арсений, очень удивленный ее чрезмерным беспокойством. — Зачем ты так волнуешься?
Вошли в избу. Арсений на все лады успокаивал мать, говоря, что с ним и не могло случиться на реке ничего худого, а между тем все с большей остротой чувствовал, что в тревоге матери не только боязнь за его здоровье, но и какой-то еще испуг, который она прячет за своей боязнью.
— Зря ты, мама, зря тревожишься… — твердил Арсений, обнимая мать за плечи. — Да я, если хочешь знать, совсем уже здоров.
— Храбришься небось? — спросила мать.
— Истинная правда.
— Коли так, тогда я, пожалуй, и домой отправлюсь, — сказала мать очень тихо, вероятно, из боязни обидеть сына внезапным решением.
Но и от тихо произнесенных слов Арсений весь содрогнулся, как случается иногда на охоте: идешь, задумавшись, а рядом вдруг раздается треск сухой валежинки, и он пронзает до пят. Арсения поразило, что мать заговорила о возвращении домой так внезапно.
— Да ты что, мама? — спросил он с тревогой. — Что ты заторопилась так? Отчего?
— Так уж надо, — ответила мать еще тише. — Дом-то, и правда, брошен.
— Чудно, — раздумывая, произнес Морошка.
— Отошли уж ты меня, сынок.
Ее жалостливый тон еще более растревожил Морошку. Уже понимая, что мать приняла твердое решение, он все же не мог удержаться от уговоров:
— Хоть пообедала бы…
— Я уж дома, родимый, дома.
От Морошки не ускользнуло, что мать, разговаривая с ним, как бы случайно не оделила Гелю и единым взглядом, будто ее и не было в избе. Тем самым мать, конечно же, хотела показать, что пока никто, кроме нее и сына, не может участвовать в обсуждении их семейных дел. Никто. Даже Геля. И тут Морошка, у которого все пылало внутри, понял, что произошло самое страшное, чего он боялся в последние дни.
Ему захотелось немедленно заговорить с матерью начистоту, со всей присущей ему прямотой. Но тут же он понял: не время и не место для такого разговора, да и не всесильна, однако, его прямота. Пусть мать успокоится, что произойдет, несомненно, очень скоро, и сама все обдумает — ей не впервые решать трудные дела.
…Прощаясь на берегу, Анна Петровна на минуту прижалась к Арсению, ухватившись за его руку, словно не она уезжала, а он, Арсений, и ласково наказала:
— Не хворай смотри…
И только теперь она впервые, возможно чувствуя некрасивость своего поведения, взглянула на Гелю. В ее взгляде, одновременно с негасимой материнской добротой и ласковостью, сегодня была и незамечаемая прежде печаль. И только здесь она сказала Геле:
— Побереги его…
Минуту назад Геле вспомнилось, как Анна Петровна при первом знакомстве считала необходимым обращаться не только к сыну, но и к ней, его невесте. Вспомнилось, как они, ухаживая за больным Арсением, подружились и сроднились. Теперь же Анна Петровна, может быть и не желая этого, всячески отделяла ее от своего сына. Но Геля не испытывала к ней никакой обиды. Так и должно быть. А вот ее наказ беречь Арсения хотя и немножко, но все же порадовал и обнадежил Гелю…
Когда катер с Анной Петровной отошел от Буйной, Геля сказала спокойно и твердо:
— Я все поняла.
Морошка с трудом разжал губы:
— Уверена?
— Да.
Они молча поднялись на обрыв.