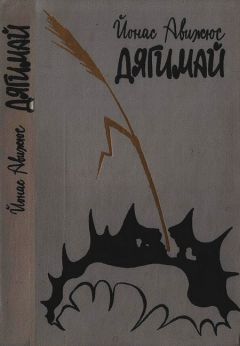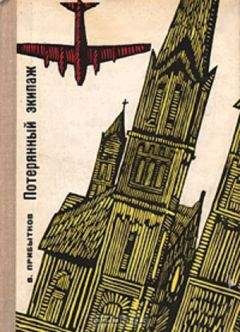Йонас Авижюс - Потерянный кров
— Невиноватого не обвинишь, Адомас.
Адомас удивленно повернулся к старику. Да, эти слова действительно произнесли его уста. Мягким, добродушным говорком тех далеких дней, когда между ними не стояла стена, а два хутора соединяла незарастающая тропа, которую до черноты протоптали они с Гедиминасом, бегая друг к другу. Голос ребячьих дней, живой человеческий голос на сцене, загроможденной картонными декорациями. И Адомас почувствовал, что от звука этого голоса все вокруг обретает цвет, наполняется жизнью и движением, а иллюзия небытия рассеивается, как туман.
— Вам, дядя Джюгас, награжденному в былые времена крестом, надо бы знать, где лево, а где право, — буркнул он: все внутри так и дрожало. — Не помогаешь немцам — звучит, помогаешь большевикам. Думаете, когда они вернутся, будет меньше крови?
И, не дожидаясь ответа, вышел за дверь: боялся, как бы снова не раздался зов ребячьих лет и не разбился вдребезги бутафорский мир, без которого не доиграть последнего акта. Но они уже были расшатаны, эти картонные декорации. Сидел у старосты Кучкайлиса, пил, а перед глазами стоял белый, как лунь, старик, неприступный в своей гордой правде: чудились корзины, подвешенные к стропилам на чердаке, где Гедиминас держал голубей, бревна, сваленные за гумном (на них они забирались посидеть, помечтать), чувствовал всей кожей дымную прохладу овина с запахом преющего льна и печеной картошки, которую ели перед остывающей печью, слушая сказки дяди Джюгаса. Недавняя действительность стала безжалостно яркой, осязаемой до боли, и Адомас опрокидывал рюмку за рюмкой, безнадежно пытаясь заглушить это чувство. «Меня больше нет… нет… — выкрикивал он в пьяном угаре. — Адомас Вайнорас спустил курок. Честь честью! Старый хрен не желает понять, а по-вашему, плохим я был человеком или как? Нет, правда, неужто Адомас Вайнорас был такой уж сволочью, что надо прийти и обделать его могилу?» Кучкайлис улыбался, хлопал по плечу. («К чему такие разговоры, смешно? Мы за тобой, как за каменной стеной, начальник, ты — наш защитник. Пропали бы…») Другие тоже дружно кивали, кто-то даже пустил слезу. Адомас растрогался. Нет, эти люди его не покинут, не клюнут ему в лицо! У него есть, да-да, у него еще есть друзья! «Знаю, лапочка, вы-то не станете вешать на меня собак, когда умру. Вы меня понимаете, сочувствуете; это вам не хуторской Михаил Архангел со своими святошами». Полез обниматься, целовал всех подряд. Но вдруг вспомнил Миграту. Может, и не вспомнил бы, если бы кто-то не принес весть, что у господина Петера фон Дизе гости и он приглашает начальника полиции со старостой весело провести у него часок-другой. Вот это в самый разочек! В поместье! А там — Мигла-Дарата… Миг-рата… рата… ата… та… Кто-то, кажется жена Кучкайлиса, обмолвилась, что темень на дворе да и пьяным за руль… Только расхохотался: может ли разбиться человек, сегодня утром проглотивший пулю? Посадил Кучкайлиса рядом (оба полицейских — на заднем сиденье) и — с ветерком по деревне! А потом все произошло с быстротой молнии. У поворота к поместью фары выхватили из темноты переплетение теней поперек дороги. Засада! Адомас налег на тормоза и тут же полез за пистолетом. Но было поздно — луч света хлестнул по глазам, и он увидел направленное на него дуло автомата.
— Ни с места! Руки вверх! — прогремел приказ.
Один из полицейских бросился из машины, но в тот же миг хлопнул выстрел, и тело шмякнулось на дорогу.
— По одному из машины — шагом марш! — снова скомандовал тот же голос. — Эй, ты там, водитель этого гроба! Пошевеливайся. Только без шуток, если не хочешь растянуться рядом с дружком.
Адомас кое-как выбросил ноги из машины. Кто-то схватил его за воротник, швырнул в темноту и принялся рыться в карманах. Брюки вдруг стали ему велики; из них выдернули ремень.
— Следующий! Ты, ты, господин полицейский.
Кучкайлиса вытащили последним.
Выстроили всех троих и погнали в поместье. Впереди ехала машина Адомаса, которой правил один из партизан.
— Кто думает бежать, помолитесь заранее! — предупредил голос, руководивший операцией.
Если поначалу кое-кто и подумывал об этом, то красноречивое ощущение дула меж лопаток быстро заставило отказаться от всякой попытки бежать.
«Как глупо… — подумал Адомас. — Утром не уложила своя пуля, вечером кокнет чужая».
— Куда гоните? — машинально спросил он.
— Что, дорогу к своему дружку забыл?
«Знакомый голос…»
Холодные, липкие клещи впились в ладонь Адомаса: это вцепился Кучкайлис. Он спотыкался, чуть ли не падал, силился что-то сказать, но изо рта вырывалось бессвязное бормотание. «Фрейдке… Бергман…» — наконец догадался Адомас.
— Он самый, Кучкайлис, — отозвались за спиной. — Пришел спросить, куда ты девал моего сына.
— Разговорчики! Нашли место для объяснений!
И этот голос Адомас где-то слышал. Приподнял руку, чтоб смахнуть пот с лица, но тотчас получил удар в спину. Аллея была не длинной, но теперь казалось, ей не будет конца. Гравий зловеще шуршал под ногами («Так скребут заступы могильщиков»), сливаясь со свистом ветра в сучьях деревьев; все кругом было так нереально и неожиданно, что Адомасу подумалось: вдруг это сон! Он опять лежит в своей кровати, а выходцы из могил снова потешаются над ним.
— Зря стараетесь, — сказал он в плену этого чувства. — Такие шутки мне не в диковинку.
За спиной кто-то рассмеялся, кто-то по-русски матюкнулся, а знакомый голос ответил:
— Как вижу, господин начальник полиции, вы еще не протрезвели после старостиного угощения.
— Тем лучше, — отозвался Фрейдке. — Легче будет отправиться к Аврааму.
Кучкайлис застонал и упал на колени.
— Идите, идите. С этой падалью сам управлюсь.
Ударили в спину, и этот удар, словно выстрел, ракетой осветил память Кучкайлиса.
(Солнечное летнее утро. Во дворе — два человека с белыми повязками на рукавах среди болбочущих индюков. Два глиняных горшка, словно набрякшие бабьи груди, топырятся рядышком на кольях плетня. «Людей не хватает, — говорит один, повыше ростом, с плоским лицом. — А ты староста. Должен пример показать…» — «Не-ет, я-то нет, мужики, — отнекивается Яутакис и прячет водянистые глаза, ероша ладонью желтые обвислые усы. — Раз уже сразу повязки не надел, то теперь… Вот Пятраса берите, таким одно удовольствие с винтовкой побегать, а я староват, ребята…» Кабы день не такой жаркий да не шальной взгляд Йовасе Яутакене, может, и не пошел бы с ними. Но солнце палило страх как. Через четверть часа лошади отдохнут — и опять пахать клеверище. До вечера мокнуть в поту на солнцепеке, маяться с битюгами, которых заедают слепни… Да и хозяйка призывно смотрит из-под дрожащих лохматых ресниц.
Надежды не было никакой — тогда он еще не знал, что Яутакис не жилец, просто считал делом чести прижать где-нибудь на сеновале старостиху, благо и сама она вроде была не прочь. Вот и сел на велосипед, напутствуемый этой призывной дрожью ресниц, вот и уехал с этими, которые с повязками, в город, а Яутакис, почесывая худые бока, поплелся в хлев; ему теперь вести лошадей на клеверище, ему пахать, сражаться со слепнями и зноем… Эх, кабы все знать наперед… Но кто скажет? Думал, винтовка, чтоб арестантов муштровать, бабахать в воздух, стращать девок, а на деле-то еще в тот самый день… Может, и не стрелял бы, кабы не водка, да еще жара и такое настроение лихое — ну просто река без берегов, плюхнулся и не выплывешь. А осенью — опять… Второй раз уже не было так страшно. Даже поднатужился и вскипел праведным гневом. Евреи! Скажешь, не они Христа распяли?! Сына божьего!
Как бешены псы, Иисуса терзали
Иль волки, что люто на агнца напали.
Песнопение, без которого не обходятся ни одни похороны в деревне, знакомой мелодией звенело в ушах, вперемежку с залпами, и он знай нажимал на курок, как взбесившийся садовод, застигший в своем питомнике стаю зайцев. Другие, что и говорить, прибарахлились, а он привез только красивый шелковый платок, этакий оранжевый, с мягкой бахромой, колечко и золотые часы. Спрятал эти вещи в свой фанерный сундучок в чулане, под кроватью. А перед рождеством, когда разговоры о расстрелах евреев поутихли, опустил часы в брючный кармашек, вшитый как раз для этого, и, вывесив на живот тяжелую золотую цепочку, отпраздновал за хозяйским столом проводы батраков. Он не собирался уходить от Яутакисов, но праздновать этот день на рождество повелось издавна. Староста уже начал жаловаться на здоровье, рано ушел спать, а Йовасе, отправив батрачонка с девкой на танцы, снова призывно трепетала ресницами; сам не почувствовал, как оказался в чулане у своего «чемодана», и, глядя осоловевшими от пива глазами на хозяйку, набросил на ее плечи шелковый платок с оранжевой бахромой. Она похохатывала, выгибала спину под его рукой, будто кошка, и говорила: это хозяевам положено одаривать батрака, а не наоборот, но раз уж так вышло, то она в долгу не останется, пусть потерпит до следующего рождества. Но так долго ждать не пришлось, Яутакис слабел на глазах, и однажды ночью, когда он заснул, Йовасе в одной сорочке явилась к батраку в чулан. Потом даже по утрам стала заходить. И тут он понял, что не зря привез этот платок и окутал им плечи чужой жены, и решил, что пора вытащить на свет божий и золотое колечко, засунутое на самое дно сундучка. «Видишь, как получается, смешно. Айн момент — и из батрака хозяин, староста, глава богатой семьи»… Но теперь, когда отовсюду на него смотрела смерть и не было ни тени надежды отвертеться, смех обернулся ужасом. В какую-то долю секунды он понял: если бы не распроклятая жара, не эти двое с винтовками… если б они хоть на полчаса позже прикатили, когда он уже пахал бы клеверище… если б Яутакис тогда уже лежал в постели, а Йовасе не смотрела так призывно… кто мог знать!.. Какой-то самой малости не хватило — и он не взял бы в руки винтовки, не начал бы; ведь главное — начать. Когда от твоей руки пали многие, когда наслушался мольбы и криков, когда сорвал дорогой платок с плеч иноверки, а ее самое столкнул в яму, заполненную стонами умирающих, — неужто после всего этого так уж важен какой-то Фрейдкин мальчонка?.. Или обезумевший беглый еврей? Один из потомков Иуды Искариотского, которые сына божьего распяли на кресте…)