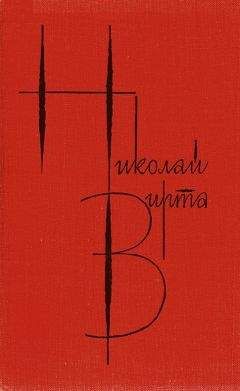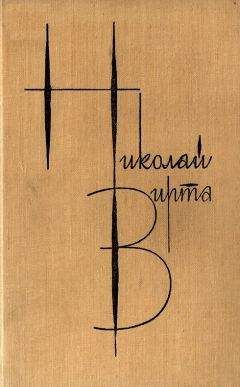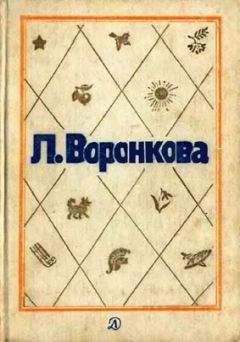Николай Вирта - Собрание сочинений в 4 томах. Том 4. Рассказы и повести
Скучные места, беспредельные, мутные дали…
В течение долгих времен в селе и округе не было отмечено каких-либо бросавшихся в глаза перемен: неизменным оставался внешний облик села и окрестных мест, уклад жизни, обычаи…
Село делилось на три более или менее точно обозначенные части: Дурачий конец, Большой порядок и Нахаловка.
На Дурачьем конце бедность была извечной. Люди как бы отдались в ее полную власть: ужасная нужда породила в здешних обитателях робость, похожую на тупость, отчего, вернее всего, и родилось название этой вечно унижаемой и оскорбляемой части села.
На противоположном краю села, в Нахаловке, жили те, у кого была земля собственная — вечная и арендуемая, у кого сундуки были набиты добром, у кого в конюшнях стояли сытые лошади, а в сараях молотилки и веялки… Нахаловка презирала и беспощадно эксплуатировала бедноту с Дурачьего конца, а те платили нахаловцам откровенной ненавистью, накапливаемой из года в год, из века в век…
Между этими крайними полюсами, на Большом порядке, обитало зажиточное и полузажиточное население, колеблемое социальными ветрами из стороны в сторону. Были еще три небольших порядка: Кочетовка, где, как уже сказано, жили мы с отцом, Калиновка и Чибизовка, с населением более или менее однородным: кулаками их никак не назовешь, но и в бедность они не впали. Исключения, разумеется, не в счет.
Бушевала в селе межусобица, часто набат и зарево будили людей… Кто поджег нахаловский двор? Ригу нахаловскую? Поди узнай! Трещали плетни, выламывались колья, появлялись ножи и топоры, и лилась кровь… Потом все утихало до следующего припадка ярости…
Слепой? Нет, осмысленной и тем более страшной!..
Против помещиков и царского начальства тамбовские мужики бунтовали беспрестанно.
Подушные подати в Тамбовской губернии достигали крайнего предела с половины зимы. Мужики испытывали полнейший недостаток во всем крайне необходимом для жизни, и дети часто вынуждены были идти по миру, побираться христовым именем…
Называлось это «уходить по кусочкам»…
Бунтовали эти вечно голодные, вечно притесняемые люди разрозненно, не имея в своих рядах полного единомыслия, целеустремленного вожака, не сообразуя силы с силами классового врага. Даже знаменитые аграрные волнения 1905 и последующих годов кончались для мужика порками, ссылками, каторгой…
Тогдашние газеты либерального толка завели специальную хронику крестьянских волнений.
Волосы встают дыбом, когда читаешь лаконичные сообщения о виселицах, издевательствах, о том, как донские казаки-усмирители терзали несчастных людей, повинных лишь в том, что не могли больше жить по-скотски.
Впрочем, и для тех бунтарей, кто по счастливой случайности не попадал в руки бесчеловечно жестоких карателей, жизнь была не менее каторжной…
КозелРазумеется, в те предреволюционные годы я еще не мог разбираться в социальной борьбе, происходившей явно и подспудно, но несколько позже учительница Ольга Михайловна Виноградова и высланный из Тамбова за «политику» учитель Загуменный Илья Тимофеевич нет-нет да и намекнут нам, бывало, на неравенство жителей нашего села.
А неравенство это было рядом: в Кочетовке рядом с нами жил Андрей Андреевич, прозванный за живость характера Козлом. Часто бывая у него, играл я с его Машками и Яшками.
Этот несчастнейший, никогда не сводивший концы с концами человек выпрашивал у кулаков «работенку», лишь бы накормить (хотя и не досыта) ораву ребятишек. Жена его, Марфа, кроткая, «безответная», как о ней говорили, поднималась чуть свет. Чтобы заработать гроши, она пряла при свете гасника, днем мыла полы у вдового дьякона, бралась за любую бабью работу.
Однако общественная жилка резко выделяла Андрея из среды бедняков, задавленных нуждой. Веселость, бодрость, неунывающий нрав, язвительный тон в обращении с сельским начальством, разумные речи на сходках — все это делало Андрея Андреевича всеобщим любимцем. В домашних и сельских заботах и хлопотах, в общественной «помочи» растворялась горечь жизни… И то правда, что Андрей Андреевич верил (до поры до времени) в слово «мое» не менее крепко, чем в спасительное «Отче наш», и плел иной раз небылицы о «смутьянах-стюдентах»… Но проходили годы, и в сознание Андрея Андреевича постепенно проникали другие мысли и идеи…
Таких, как Андрей Андреевич, было в губернии бессчетно!
Тамбовская губерния слыла как одна из самых страшных в смысле кабалы, пережитков крепостничества, местом самого низкого уровня жизни крестьян.
На долю таких, как Андрей Андреевич, — а их было больше половины в губернии, — приходилось меньше одной трети пахотной земли.
Но и эти крохотные наделы часто нечем было обрабатывать. Больше трети Андреев Андреевичей не могли обзавестись лошадью…
Андрей Андреевич, выпрашивая у кулака лошаденку, чтобы вспахать свою землишку, выпрашивал у него и соху… Ему и соху не на что было купить. И не только ему, а почти половина тамбовских мужиков соху видели лишь во дворах зажиточных соседей.
Где ж там было Андрею Андреевичу и ему подобным думать о том, чтобы их детям жилось лучше, чем им самим! На народное образование деревенских жителей губернское правление (в конце девятнадцатого века) ассигновывало тридцать пять копеек (35!) на человека.
Отсюда почти поголовная неграмотность: восемьдесят четыре процента мужиков и их ребят не могли изобразить на бумаге свои фамилии, а ставили вместо подписи… кресты!
От такой жизни хочешь не хочешь запьешь, благо водки было в каждой деревушке сколько угодно: пей, веселись, душа мужицкая!
И шли Андреи Андреевичи в кабак, закладывали последнюю одежонку, дырявую шапку кабатчику, абы выпить «вина зеленого», утопить в нем хоть на миг тоску-злосчастье…
КабакБыл (до нашего переезда) в Двориках кабак под замысловатым названием «Чаевное любовное свидание друзей». Держал его Иван Павлович — он же лавочник, он же мельник, он же, как упомянуто, церковный староста. Был он роста небольшого, плечи имел саженные. Все у него выглядело как-то необыкновенно широко: плоская голова, плоский нос, вдавленные вовнутрь широченные губы. Он походил на леща.
Все дни лещевидный Иван Павлович сидел в лавке, а к вечеру открывал свое заведение, над дверью которого висела грубо намалеванная вывеска, на которой, кроме названия, были изображены баранки, сахарные головы и самовар.
Открыв обшарпанную, визжащую дверь, посетитель, жаждущий чаевых утех, попадал в довольно темную избу, уставленную качающимися столами и грязными табуретками.
У стены напротив входа помещался неуклюжий дубовый буфет; здесь хранились баранки, колбаса, в просторечии называемая «собачьей радостью», монпансье в высоких железных банках с цветными наклейками, табак, папиросы, спички.
Внизу буфет имел ящик, откуда Иван Павлович извлекал водку, — он приторговывал ею по уговору с сидельцем монопольки, или, как звали мужики, «винопольки».
Иван Павлович подавал водку в чайниках — это действовало на воображение посетителей и спасало от возможных неприятностей: водкой он торговать не имел права. Для отвода глаз в углу за прилавком всегда кипел самовар. Чай пили те, у кого не было денег на водку; однако известно, что собрать денег на выпивку куда легче, чем на иное дело; поэтому Иван Павлович не жаловался на отсутствие любителей выпить, заведение его процветало.
Он восседал за прилавком около буфета на высоком табурете, единый в трех лицах — кабатчик, мельник, лавочник.
Его окружал пар, валивший из самовара, его освещало тусклое пламя лампы, висевшей на железном крюке.
На стене сбоку от него помещалась картина, изображающая русского солдата, насадившего на штык дюжину турок в фесках. Впрочем, картину так засидели мухи, что видны были только красные фески.
Пол чайной мылся редко, пар, валивший из самовара и чайников, мешался с табачным дымом, и все в избе казалось окутанным синим туманом. Таков был вид сельского кабака, где собирались веселые компании, бутылкой водки скреплявшие временную, шаткую дружбу. К вечеру сюда обычно приходили Андрей Андреевич и земский ямщик Никита Семенович Ивин, по прозвищу Зевластов; они дружили. Был Никита отчаянным буяном, горлодером, все скандалы на сходках возникали при его непременном участии; в Двориках он да Андрей Андреевич были воротилами сходки.
Зевластов пил водку, наливая ее из чайника в стакан, а из стакана в блюдце. Перед тем как отхлебнуть, он дул на блюдце — отгонял беса, который сидит в водке. Водку ямщик закусывал хлебом, густо посыпанным солью.
Андрей Андреевич пил жиденький чай… Случалось, ямщик раскошелится и угостит приятеля полуштофом водки; Андрей Андреевич мгновенно пьянел, обнимал друга и начинал петь:
Эх ты, горе мое, горемычное,
Распроклятое село, непривычное!
Все-то тут не наши, не наши, не свои,
Все-то тут чужие, чужеродна-а-а-и-и!
Некогда на этих равнинах между Доном и Вороной, Мокшей и Окой кочевали сарматы, гунны прошли на юг к теплым морям; половцы бродили по этим просторам; хазары и печенеги бряцали оружием, с грохотом и воем неслись на русские земли…