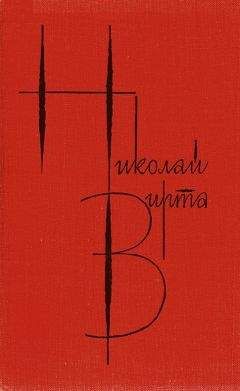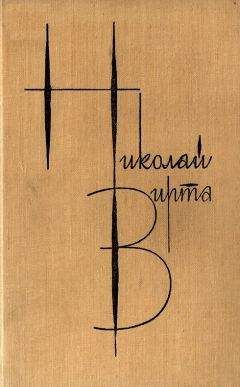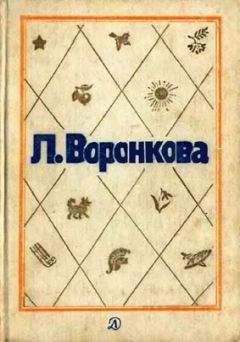Николай Вирта - Собрание сочинений в 4 томах. Том 4. Рассказы и повести
Все в церкви было до крайности бедно: и алтарь, и старый, залитый воском ковер на амвоне, и полинявший занавес на царских вратах, и Евангелие неведомо как держалось в тяжелом железном переплете… Церковь плохо освещалась: Иван Павлович — церковный староста — на расходы был скупенек.
Как и обычно, к ранней обедне приходили Лука Лукич Сторожев и его внук Петр, Прасковья Хрипучка, пастух Илюха Чоба и несколько согбенных старух и стариков.
В полумраке выделялась огромная фигура Луки Лукича; он словно бы подпирал своими могучими плечами низкие церковные своды.
Рядом с ним стоял Петр, с черными горящими глазами, меднолицый, скуластый и жилистый, весь словно из железа, с огромными, длинными, дьявольской силы руками.
За ктиторской загородкой помещался Иван Павлович; остальные жались в самых темных углах.
Зажигались в алтаре свечи, молящиеся слышали в алтаре шорох и шаги, и души пришедших сюда наполнялись чем-то размягчающим, исходящим из алтаря… Казалось мне в эту минуту, что и свечи начинали гореть по-иному: пламя их, колеблющееся от проникающего сквозь щели ветерка, становилось спокойным, более ярким, и иконы оживали, потрескивали свечи, клубы дыма от кадильницы плыли ввысь, голоса священника и псаломщика казались далекими-далекими. Будто уходили горести, обиды, черные думы. И думалось, что мир царит во всем мире и во всех сердцах.
Огромные причудливые тени появлялись на стенах и исчезали, все гуще становился кадильный дым, все дальше, мнилось, уходили отсюда скорби бренной жизни, и ближе становилась жизнь, где несть печалей и воздыхания… Шептала что-то Прасковья, выпрашивала у божьей матери милости для себя, для сыновей, для мужа, для всех людей.
— Господи, по-о-ми-луй! — пел псаломщик.
«Кого помилуй? Как так помилуй? — думал Лука Лукич. — Помилуй их, они враз все разворуют!»
Петр Сторожев стоял столбняком. Он об одном думал, как бы поскорее вырваться из семьи да завести свое хозяйство, искоса посматривал на деда и злобно кусал губы: «Долго еще протянет, старый дьявол, долго не выбраться из-под его руки!»
Старик видел взгляды Петра, догадывался о его мыслях и хитро ухмылялся. «Поживу еще, собачий сын, — весело думал он. — Ты еще у меня попляшешь! Я есть здоров, и спать здоров, и работать здоров! А тебя, подлеца, уважаю, в меня пошел, карахтерный! Только мною подавишься — бог не выдаст, свинья не съест!» — притворно вздыхал, махал рукой, словно мельничным крылом, и подпевал псаломщику:
— О-о-оспо-ди-о-оилуй!
Пастух Чоба рассеянно смотрел на все происходящее: молитв он не понимал, но ему было тепло в церкви, и о я думал об Аленке, стряпухе сельского старосты Данила Наумыча: надо бы поговорить с ней, усовестить, пусть не ломается, пусть идет за него замуж.
«Эх, кабы достаток, тут бы уж Аленка не отказалась!»
И Чоба начинает мечтать о достатке, о собственной, хотя какой-нибудь избенке, о корове и серой лошади; он улыбается во весь рот и получает здоровую затрещину от Ивана Павловича, идущего «с кружкой».
Чего ухмыляешься, харя?
Чоба бухается на колени и начинает молиться, ни о чем уже не думая и ничего не соображая.
ВераНикакого религиозного трепета за обедней или вечерней я нисколько не ощущал и никакого уважения к богу-отцу и его многочисленной родне не испытывал. Но мне нравилось слушать хоровое «Отче наш», «Верую» и другие напевы, доступные пониманию людей. И я, и громадное большинство приходивших в церковь смысла молитв не понимали и следили лишь за тем, чтобы вовремя стать на колени и подняться с них.
Вообще замечу, многие крестьяне никогда не были глубоко религиозными и по-настоящему верующими. Они любили обряд, им было тепло и светло в церкви, вкусно пахло ладаном, можно было испить сладенькой водички после причастия…
Особенно любили на селе все связанное с пасхой.
После пасхи самым веселым для нас, ребятишек, днем была троица. С утра я залезал на огромнейший вяз, росший в палисаднике, и рубил ветки; ими украшался дом. Мать пекла какую-то особенно вкусную пастилу из прошлогодних запасов смородины, вафли (если был в продаже сахар), сдобные пышки… Все это угощенье, запиваемое парным молоком, осталось в памяти навечно; вкус пастилы помню отчетливо.
Но до троицына дня нам, ребятам, приходилось здорово потрудиться в огороде. Он начинался за ригой и тянулся широкой полосой вплоть до порядка, называемого Калиновкой. Сажали мы картошку, свеклу, морковь, огурцы…
УчительницаВпервые я попробовал и узнал вкус салата в школе: им угостила меня моя первая учительница Ольга Михайловна, светлая память о которой уйдет в могилу вместе со мной… Она же уговорила мать сажать редиску, петрушку и кабачки — овощи в те времена чрезвычайно редкие.
Ольга Михайловна, к слову сказать, любила отца за то, что он не был похож на какого-нибудь заскорузлого сельского попика. Ей нравилось то, что отец много читает, не понуждает нас к исполнению религиозных обрядов, что не было в нем поповской алчности, хотя, как говорится, драл он с живого и мертвого, но в душе гнушался этой нелепой традицией.
И вся наша семья очень любила Ольгу Михайловну, милую, добрую, никогда не унывающую!
В «Вечернем звоне», в рассказах я не раз упоминал Ольгу Михайловну. Навсегда врезался в память один мой разговор с нею.
Было это, если не ошибаюсь, в июне 1917 года. Член Государственной думы Молчанов, вернувшийся из Петрограда домой, сам пришел к отцу и со злобой говорил о беспорядках, устраиваемых, по его словам, анархистами и прочей «рванью». Я присутствовал при этом разговоре и запомнил все, что говорил Молчанов. Вечером шел я с Большого порядка; Ольга Михайловна сидела на школьном крыльце и что-то читала. Я попросил разрешения, сел с ней рядом и начал повторять россказни Молчанова.
— Что же это будет, Ольга Михайловна? — спросил я под конец.
— А именно?
— Ведь всем нам будет плохо, если анархия…
— Молчанов называет анархистами людей, искренне преданных революции… Этот Молчанов!.. — Ольга Михайловна махнула рукой. В глазах ее блеснул злой огонек.
— Но ведь нам и от революционеров будет плохо.
— Да, конечно, — Ольга Михайловна недобро улыбнулась. — Ты будешь получать от матери вместо трех конфет в день — одну. А может, ни одной. Но ведь, ты знаешь, почти все твои приятели конфеты в глаза не видели, вкуса их не знают… Это-то тебе понятно?
Понял я это гораздо позже.
Через некоторое время после нашего переезда в дом Ольга Михайловна вышла замуж за молодого, очень веселого учителя Алексея, тоже Михайловича. Их свадьбу и наше новоселье мы справляли в доме, где еще пахло краской.
Все село перебывало в новом поповском доме, ахали и охали…
Отец сиял от радости: наконец-то и он обзавелся собственным домом. Он был самым вместительным и красивым в селе.
Юдоль«Никто не знает, с кого повелись Дворики…»
Так начинается роман «Вечерний звон» — первый в трилогии, через которую проходит история семьи Луки Лукича Сторожева и его потомков.
И точно: ни в церковной летописи, ни в архивах близлежащих помещичьих усадеб, ни в делах уездной и губернской канцелярий я не нашел ничего определенного, что бы пролило хотя бы слабый луч света на историю нашего села. Расположенное вдали от столбовых и железных дорог, оно ничем не выделялось среди многочисленных других сел и деревень губернии — ни разгульными праздниками, ни шумными ярмарками, ни искусными кружевницами или славными кузнецами.
Томительно однообразное, тянулось оно версты на полторы вдоль пыльной дороги, и глазу человека, проезжавшего мимо, нечем было тут полюбоваться. Избы, сложенные большей частью из самана, до того походили одна на другую, будто их делал человек, напрочь лишенный фантазии. Саман быстро разрушался, стены оседали, или их выпирало, многие избушки кое-как держались на подпорках; соломенные крыши прорастали мохом, а к весне, особенно если она выдавалась поздней, солома шла на топку или на корм скоту. И тогда жерди, составлявшие клетку крыши, тоскливо торчали под белесыми небесами.
Плетни сгнили, покосились или завалились, и, куда бы ни упал взгляд — всюду ветхость, бедность, безысходная тоска…
И природа под стать селу. Плоская, как ладонь, равнина без единого кустика, речушка, высыхающая к началу июня, чахлые ветлы вдоль берегов ее, а вокруг поля, по которым гуляют привольно летние пыльные бури и зимние вьюги и стелются осенние туманы…
Ни тенистых лесов, ни хотя бы рощиц, ни тихих, прозрачных озерных вод… Лишь изредка набредешь на болото, звали их почему-то «окладнями», с бурой, гнилой водой. От нее даже скотина отворачивалась. Ни сенокосов, ни хорошего выгона для скота, ни водопоев, ни журчащих ручьев…
Скучные места, беспредельные, мутные дали…