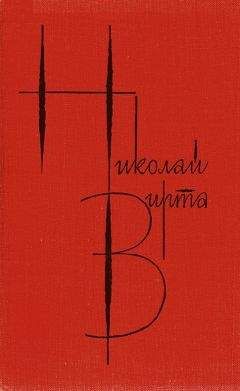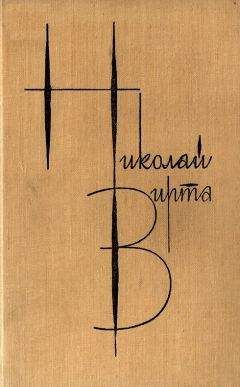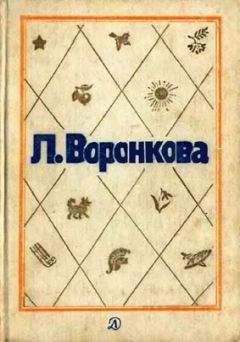Николай Вирта - Собрание сочинений в 4 томах. Том 4. Рассказы и повести
Солнце стояло в зените и поливало полыхающим жаром луг, реку и заречье, подернутое лиловато-сизой дымкой. Все притихло в природе. Замолчали птицы, даже неутомимые кузнечики, томясь от пекла, примолкли, и бессильно поникли жидкие ветви старых-престарых ив. Яркие солнечные блики играли на воде, лениво плескалась рыбешка, неподвижной статуей замер на противоположном берегу рыболов — толстый, полуголый дядька в соломенной шляпе. Где-то далеко прогрохотала машина.
Солнечный луч блеснул на позолоченном кресте церквушки; блеснул и исчез. Знойно, душно…
Послышалось рокотание автомобильных моторов: наши возвращались из поездки. И сразу лицо пастуха замкнулось: ни белозубой улыбки, ни озорного прищура глаз.
— Прощайте, — сказал Юрко. — Мне пора. — И протяжно свистнул.
Коровы, словно ожидая этого сигнала, заторопились к илистой кромке реки.
Юрко больше не приходил в лагерь. Лишь перед самым отъездом я нашел его: он сидел на пне возле речки и читал. Мне нужен был кузнец: Юрко свел меня с ним. Но это уже другой сказ.
1974
Как это было и как это есть
Автобиографическая повесть
Моя жизнь в деревне, и как результат романы «Одиночество», «Закономерность», «Вечерний звон», «Крутые горы», множество рассказов и пьес, богата событиями, порою самыми, казалось бы, невероятными.
Именно потому, очевидно, что жизнь эта до краев была насыщена разными происшествиями, отдельные ее эпизоды особенно ярко запечатлелись в памяти.
На всякий случай упомяну, что родился я в 1906 году в селе Каликино — это на юге Тамбовской области; село расположено километрах в трех от станции Токаревка Юго-Восточной железной дороги. Отец мой был священником; Каликино — первый приход, куда его высшее духовное начальство послало совершать свою в общем-то незамысловатую службу.
Из Каликина отца перевели сначала в село Волчки, потом в Горелое. Лишь в 1911 году мы надолго осели в селе Большая Лазовка — в романах «Вечерний звон», «Одиночество» и «Закономерность» оно названо Двориками. Здесь круг знакомств отца пополнился учителями, большинство которых были сосланы сюда за нелегальную и легальную (до поры до времени) борьбу с царским режимом.
Иногда, очень, впрочем, редко, отец ходил на Нахаловку. Там жил депутат Четвертой Государственной думы Молчанов, эмансипированный крестьянин из богатой семьи. Особенно часто отец бывал у Молчанова накануне февральской революции: тогда в Государственной думе произносились резкие антиправительственные речи, цензура не пропускала их, газеты выходили с белыми полосами… Молчанов рассказывал отцу о скандальном шуме вокруг Распутина, сетовал на царицу, жалел… царя… Домой отец возвращался еще более молчаливым и замкнутым. В числе его приятелей был Петр Иванович, названный мною в романе Сторожевым. На самом дело было два Петра Ивановича, оба активные эсеры и антоновцы, я соединил их в один образ. В дальнейшем я встречался именно с Петром Сторожевым.
По своим взглядам, как я теперь понимаю, отец был кадетствующим эсером. Будущее устройство России представлялось ему в виде резко ограниченной монархии с правительством из «образованных» классов, но с участием «умных» крестьян — вроде того же Сторожева.
Моими занятиями вне школы и вне дома отец не интересовался совершенно, не мешал дружить с сельскими ребятами и проводить время как мне вздумается. Не было случая, чтобы меня не пустили в ночное или в ночевку в поле. Когда приходил срок уборки подсолнечника, я помогал своим приятелям; уезжали мы в поле недели на полторы.
Никакого особенного религиозного воспитания в доме мы не получали; в церковь могли ходить, а могли и не ходить, посты соблюдать и не соблюдать…
Читал я запоем. Книги из отцовского шкафа проглотил годам к двенадцати. У отца было порядочно всякой литературы: русские классики, журналы «Нива», «Огонек», «Задушевное слово», «Мир приключений», «Вокруг света»… Потом я начал доставать книги где попало и у кого попало. И вдруг узнал, что в соседних селах, в помещичьих имениях, на чердаках свалены груды книг. С тех пор эти имения стали для меня целью книжного паломничества…
Отмахаешь, бывало, километров пятнадцать, заберешься на чердак барского дома, набьешь заплечный мешок книжками и домой… А дома мать сразу все книги запрет в комод и мне выдает одну-две книжки в день…
Так были прочитаны все сочинения Жюля Верна, Майна Рида, Фенимора Купера, Дюма, много книг русских авторов. До упада я смеялся над приключениями пана Халявского и лил слезы над страданиями Вертера, не понимая, конечно, философской сути произведения.
Однажды в потайном углу отцовского шкафа я разыскал связку книг, обернутых в синюю бумагу. Связка немедленно была выпотрошена… Взахлеб, тайно от всех прочитал я полдюжины книг, выпущенных полулегальным издательством «Донская речь».
Одна книга особенно запомнилась: там описывались характеры русских царей после Петра Великого. Написано это было так хлестко, что я обливался холодным потом от страха: вдруг меня застанут за чтением этой книги… То-то скандалу быть!.. Чтобы избежать неизбежного разоблачения, я запирался в уборной и там поглощал страницу за страницей о том, какие идиоты, вроде Петра III, правили Россией, сколько любовников было у Екатерины II, как оказался на престоле Николай I, почему все цари были вовсе не русскими, а сплошь немцами… Каждый шаг на улице настораживал меня, и я прятал очередную «запретную» книжку в такое место, о котором никто из домашних не мог догадаться…
А в общем-то был я мальчишкой, как все мои сельские сверстники, участвовал в ссорах и драках, играл с азартом в лапту, чижика и казанки (игры ныне забытые), предводительствовал шайкой ребят с Кочетовского порядка. Мы отчаянно враждовали с шайкой ребят с Большого порядка… Они прозвали меня почему-то Мешком и доводили меня до бешенства этой кличкой…
С детства нас приучали работать в поле, огороде и в саду.
До сих пор с содроганием вспоминаю изнурительную работу на прополке проса; пололи его по меньшей мере два раза, вырывая осот руками. Нагибаться каждый раз, чтобы выдрать кует осота с корнем, было невозможно. Мы ползали по полю, проклиная все на свете. Нещадно пекло солнце, колени болели, ужасно ныла спина, руки — в ссадинах и крови… С рассвета и до заката продолжалась эта пытка. Порой просо так зарастало осотом и другими сорными травами, что приходилось жить в поле неделями.
Только окончишь первую прополку, как начинается вторая, еще более тяжелая, потому что за это время осот снова вырастает и выдирать его из спекшейся земли невероятно трудно.
И все это делается впроголодь: времена были голодные.
Однако, как ни тяжело было работать в поле, работа закаливала нас, приучала к лишениям, что впоследствии мне и моим трем сестрам очень пригодилось.
С батраком отца у меня была крепкая мальчишеская дружба. Он скрывал от отца и матери мои проделки, я в свою очередь — его недоделки. Спали мы в кухне на полатях. Иной раз я до дрожи доводил Тимофея, по прозвищу «Патрет», россказнями о чем-нибудь очень страшном, например пересказывая гоголевского «Вия» или «Страшную месть»… А уж если заводил что-то смешное, тут прысканью и хохоту не было конца…
С Тимошей мы были друзья: вместе чистили хлев, убирали за овцами, делали для коровы «резку» (мелко нарубленную солому с отрубями), таскали из омета солому для топки печей в кухне и в чистой половине дома, возились в соломенных ворохах, боролись, тузили друг друга, пока на шум не выходили отец или мать и не прекращали кутерьму.
…Почему отец и мать выбрали Дворики, не знаю. Если принять во внимание удобства и разнообразие жизни, то в этом смысле Волчки, а Горелое в особенности, представляются мне идеальными. Волчки в те времена были красивым селом; Горелое — тем более.
Как бы то ни было, мы осели в Двориках надолго. Здесь отец впервые обзавелся своим домом: купил хилую покосившуюся развалюшку у священника, бывшего до него, влез в долги, расширил, перестроил дом и обставил на городской манер. Тогда же он начал деятельно готовиться к постройке новой церкви, о чем разговор шел давно.
ЦерковьСтарый храм был очень ветхий. Крыша протекала и грозила обвалом, сырость портила иконостас и степную роспись, краска на иконах потрескалась и лупилась. В ливни капли дождевые падали на престол, сквозь прорехи в крыше залетали голуби, стрижи носились под куполом с веселыми криками.
Обитая тесом, выкрашенная давным-давно желтой клеевой краской церковь была увенчана двумя куполами. Некогда золотые звезды украшали их, но золото со звезд облезло, и купола были покрыты ржавыми пятнами. Кресты уже давно не золотились, колоколов было мало, а самый большой колокол однажды упал — сгнила балка, на которой он висел.