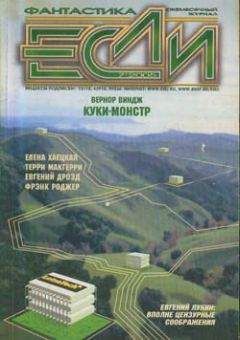Стремнина - Бубеннов Михаил Семенович
Поднялся он неожиданно:
— Меня ребята ждут.
— Я и про катамаран еще не узнал, — заговорил Морошка.
— Встанешь и узнаешь. Сегодня опробуем. Кажись, снаряд хорош.
Чтобы не беспокоить больного, Геля ушла со своей машинкой к Марьянихе, а мать все что-то возилась в прихожей. До вечера у Морошки оказалось так много свободного времени, что он успел вспомнить всю свою жизнь и все, что случилось за лето на Буйной, и вволю подумать о работе и еще о многом, что, может быть, и не касалось его лично, но было важным вообще в человеческой жизни.
VI
На следующее утро, в привычный час, несмотря на уговоры матери, Арсений поднялся с постели. Когда пришла Геля, он прошлепал к рации и прослушал сводку из Богучан, с водомерного поста. Судя по тому, как снижался уровень реки в Богучанах, в ближайшие дни и на Буйной должен был начаться спад воды. Затем Морошка, едва скрывая свое волнение, долго стоял у окна и смотрел на реку. Над нею белой пряжей тянулись ленты угасающего тумана.
До полудня Арсений еще раза три подходил к окну. С тем особым чувством, какое известно только людям, живущим у реки, провожал он уходящие вниз, заканчивающие навигацию суда, со щемящим сердцем слушал их прощальные гудки. Смотрел на густо дымящий земснаряд, от которого доносило железный визг и грохот. Но чаще всего не мог оторвать глаз от теплохода, маячившего в верхней части прорези, и очень сожалел, что ему не видно, как идет работа на катамаране, и очень радовался, когда оттуда доплескивало удар взрывной волны.
Но как ни тревожил Морошку приближающийся спад воды, как ни томила тоска о работе, его никогда не покидали заботы о Геле. И еще он побаивался, что ее история как-нибудь откроется перед матерью, пока она живет на Буйной. Он догадывался, что матери, хотя она и сама хлопотала о его женитьбе, все-таки больно видеть кого-либо на месте, какое должна была занять ее несчастная дочь. Но куда больнее будет, если она узнает историю Гели. Это могло произойти не только случайно. Узнать ее мать могла прежде всего от самого Белявского, который все еще зачем-то околачивался в прорабстве.
Арсений не мог понять, что происходило с ним, когда он вспоминал о Белявском. Ему казалось, что он перестает быть прежним Морошкой, а становится совсем другим человеком. Он может думать о том, о чем раньше не мог думать по своей природе. Он мог сделать то, чего раньше ни за что бы не сделал. Кажется, он мог даже убить Белявского, и мысль о том, что он способен поднять на него руку, не казалась ему страшной.
VII
После внезапного отъезда Родыгина, который в суматохе, вероятно, совсем позабыл о нем, Борис Белявский понял, что ему уже никто на Буйной не поможет. Одна была надежда — и та исчезла. Значит, только сам он мог постоять за себя, только сам…
Все рабочие сторонились теперь Белявского. На счастье, из тайги вышли двое каких-то парней и поселились в охотничьем зимовье у Медвежьей. Они говорили, что работали в геологической партии, в районе будущей железной дороги, какую собираются проложить от Тайшета до Богучан, но работа кончилась, надо было возвращаться в Красноярск, а они решили выйти к Ангаре и зазимовать в хорошем месте. Парни были в изрядно поношенной одежде, обычной для проработавших лето в тайге, и походили на бродяг. Они явно не годились в приятели. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба.
Новым знакомым хотелось сменить потрепанную одежду и, как они говорили, появиться среди людей людьми. Белявский согласился выручить выходцев из тайги. Стараясь избежать лишних разговоров, он не захотел заниматься перепродажей, а решил загнать только свои вещи, тем более что у него давно опустел кошелек.
Перекладывая вещи из чемодана в рюкзак, чтобы незаметнее унести их с брандвахты, Белявский, себе на удивление, думал не о том унизительном положении, в каком оказался на Буйной, а только о Морошке, об одном Морошке. И странное дело, впервые думалось о нем не только с ненавистью, но и с завистью.
Перед тем как отправиться на Медвежью, он вышел оглядеться и увидел на шивере моторную лодку, да не какую-нибудь, а именно ту, на какой бежала таежная вольница. Он узнал лодку и по окраске, и по тому, как она задирала нос над волной. «Все! Поймали!» — бледнея, воскликнул про себя Белявский. Но его сердце дрогнуло еще сильнее, когда он разглядел, что в приближающейся лодке сидит, оглядывая берег из-под руки, повариха Варенька.
Немалых усилий стоило Белявскому спуститься на берег неторопливым шагом равнодушно гуляющего человека. Все в нем трепетало от беспокойства, как в только что выхваченной из воды рыбине. Едва-то сумел он изобразить на лице веселое изумление:
— О, беглянка явилась!
— Явилась вот, — сердито ответила Варенька, вылезая из лодки и не глядя на Белявского.
— Поймали вас, что ли?
— А то не поймают! — ответила Варенька, с явным восхищением отдавая должное тем, кто изловил беглецов. — Милиция, она тоже не лыком шита. Всех варнаков выловит да упрятает за решетку! — Тут она скосила один глаз на Белявского. — Погоди, и до тебя доберутся. И тебя засудят.
— Что ты болта-аешь, а? — отозвался Белявский, весь леденея, но со смешком. — А меня-то за что?
— За дело, — ответила Варенька резко.
— Вот дуреха! За какое такое?
— А то не знаешь?
Белявскому все труднее и труднее становилось сдерживать подергивание губ, быть смиренным, незлобивым да разговаривать в шутейном тоне:
— Ничего я, Варенька, не знаю и не ведаю. Не только про твоих ухажеров, но и про себя.
Вероятно, Вареньку обидело напоминание про ухажеров, и она наконец-то повернулась к обидчику всей грудью:
— Это тебе-то про себя ничего не известно, да? И не стыдно ухмыляться и пялить на меня зенки? — заговорила она с несвойственной ей крикливостью. — Хватит врать! Весь изоврался! Не только самому — людям про тебя все известно!
— От кого? Ты что-нибудь наболтала? — нахмурясь, спросил Белявский.
— Я? Я за тебя в милиции по дурости горой стояла, если хочешь знать! — ответила Варенька. — Я одно твердила: «Не причастен Белявский, и все! Никаких свечек не давал!» А они сами тебя выдали.
— Кто? — теряя голос, в замешательстве переспросил Белявский.
— Твои закадычные! — съязвила Варенька и неласково оповестила на прощание: — Ну, мне некогда.
Она направилась было в прорабскую, но спохватилась, вернулась и попросила моториста, выгружавшего какие-то узлы на берег:
— Вытащи эти… свечи-то… и дай сюда, а этого… — кивнула на Белявского, — и к лодке не подпускай.
— Вот дура, — отступая, проворчал Белявский.
— Не дурнее тебя! — отрезала Варенька. — Да и почище! — И тут она, разойдясь от обиды, закончила перепалку как есть по-бабьи: — Меня укоряешь, а сам-то какой? Хорошенький? Баский? — И для крепости даже припугнула обидчика: — Погоди, вот потянут в милицию, будешь знать! Там все раскопают! Все твои проделки, все грехи!
Варенька и не подозревала, какое впечатление произведут на Белявского ее последние слова. Мнительному Белявскому в них почудился намек на то, что каким-то образом стало известно о его надругательстве над Гелей, и все в нем мгновенно обмерло…
Согнувшись, словно навстречу ветру, и упружисто перебирая ногами в грубых ботинках, Варенька без передышки поднялась на крутой обрыв. У нее перехватило дыхание, когда она приблизилась к прорабской. Никого не замечая в прихожей, она направилась к открытой двери комнатушки Арсения Морошки. За столом прораба сидел Завьялов с утомленным лицом, но с веселой, дрожащей золотинкой в карих глазах, — вероятно, только что говорили о чем-то забавном. Арсений Морошка сидел на своей кровати.
— Это я… — заговорила Варенька дрогнувшим, почти плачущим голосом, увидев, как и Завьялов и Морошка взглянули на нее со строгим удивлением. — Знамо, дура, как есть дура… — продолжала она, подозревая, что именно так и называют ее сейчас про себя мужчины, и покорно соглашаясь с такой совершенно справедливой оценкой своей личности. — Вот они, свечки… — не дождавшись какого-либо привета, добавила она и положила на кровать, рядом с прорабом, свечи с лодочного мотора.