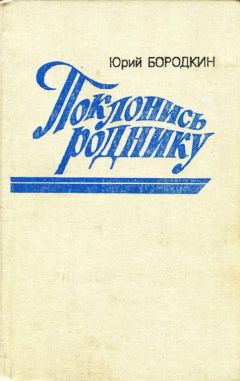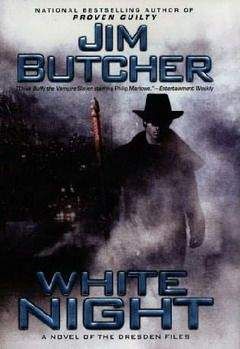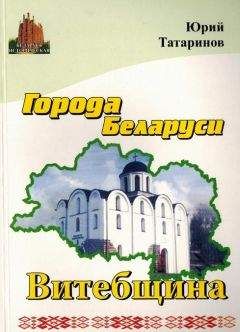Юрий Бородкин - Кологривский волок
Егор скоро споткнулся, уснул под копной. Сергей воздерживался выпивать — за рулем. Только Охапкин был неутомим, скинув защитного цвета фуражку, он сидел, по-турецки подобрав под себя ноги; лицо и гладкая шея пылали. Невпопад подставал к песне, портил ее дурным надтреснутым голосом, а в паузах вдохновенно взмахивал кулаком.
Солнце причалило к лесу, тени от оставшихся копен длинными полосами потекли под берег. Видно было, как всплёскивала рыба, беспокоя гладь воды, от которой уже всходил парок и потягивало прохладой. Свежей запахло сеном, звонче заковали кузнечики, и людские голоса скатывались далеко по лугам. Ах ты, Песома-река, до чего же ты нежишь сердце шумилинскому жителю! До чего же благодатно на твоем прогретом летнем берегу! Так бы и не уходили отсюда к домашним заботам, пели бы задумчивые, протяжливые песни, глядя на завораживающий бег воды. Много ее утекло в иные края, в большие реки, а все неутомима Песома, все радует людей чистотой промытых запесков, струистым говором перекатов, непорочным спокойствием заводей, то безмерно глубоких, как небо, то иссиня-зеленоватых, потаенных, то огненных, как расплавленный металл, и тянутся к этой красоте и взгляд и душа как будто за исцелением.
Вспоминалось Сергею другое лето, другой сенокос, на той стороне за мельницей, когда он, зеленец зеленцом, потерял голову перед Катериной Назаровой. Хорошо, что она уехала из Шумилина. Трудней тогда жилось, но было многолюдней и веселей, держалась еще в бабах надежда на возвращение мужей, превратившаяся постепенно в застарелую тоску, и сами они постарели, поотвыкли от праздников, потому скоро угасла короткая вспышка веселости, просто было приятно посидеть у воды, расслабившись от медовухи.
Очнулись, когда под копной завозился, приподнимаясь, Егор. Подшучивали над ним, жена выплеснула ему на голову бидон воды. Бабам показалось этого мало — хотели искупать в реке Охапкина, но не хватило силы против такого борова. Он довольно ржал, беззастенчиво лапал всех, кто попадался под руку. Так разохотился, что отказался ехать домой, попросил Сергея:
— Ты уж отвези один сено. Моей там скажешь, что я заночевал у Егора.
Добро бы, колхозное сено, а то на поветь ему, Охапкину. Да что поделаешь? Не отказываться же — председатель. Прямо сказать, хозяином себя чувствует в колхозе.
Встретила Сергея жена Охапкина Анна, под стать ему пухлая, раздобревшая на добрых хлебах да без колхозной работы. Лицо ее просияло при виде большущего воза.
— Где сам-то?
— У Егора Коршунова остался, — ответил Сергей, хотя знал, что у Коршуновых Охапкин задержится только до темноты, а потом перекочует к Евстолье Куликовой — в деревне ничего не утаишь. Может быть, только для Анны это и было секретом, да и ей небось скоро шепнут.
— Пьяный?
— Выпивши, конечно, — выгораживал Сергей председателя.
— Горе с этим вином! Сережа, будь добр, подай сено-то на поветь, а то нам с Юркой нипочем не управиться, — ласково попросила она.
И опять Сергей не мог отказаться: люто взламывал тяжелые навильники, так что Анна со старшим сыном не поспевали принимать сено в ворота повети. «Он там с бабами хороводится, а я вкалываю, как нанялся, — возмущался Сергей. — В конце концов, мое дело шоферское, свалить бы — и в сторону, так нет, все чего-то совестно, неудобно».
Когда перекидал сено, Анна пошла в избу за питьем, но он, не дождавшись ее, укатил обратно в Шумилине и, прежде, чем поставить машину домой, снова свернул к реке — искупаться, смыть едкую сенную труху. Не обвыкая, бултыхнулся в омут, покоившийся в ракитовых берегах, вспорол медь вечерней воды, и она лениво и сонно закачалась, как бы недовольная тем, что ее потревожили. И в самом деле, было такое согласие в природе, которое противится малейшему вмешательству в нее. Высоко и торжественно дотлевали облачка; рябиновый, еще не созревший закат сливался в реку выше Коровьего брода; за темным валом кустарника молчали изнуренные дневным зноем луга, ожидая росу. Было легко лежать без движения на воде и чувствовать свою невесомость, точно попал в неизвестную, но бережливую стихию.
Ах ты, Песома-река! Как рукой сняло усталость, снесло твоей чудодейственной водой, и очистилась душа, возвысилась над суетой минувшего дня.
9
По деревне, вниз к реке, медлительно шествует, вихляя бедрами, особа нездешней масти — пышно взбитые волосы рыжи до кирпичного накала. Пестрый ситцевый халатик и красная лакированная сумка, висящая через локоть, тоже бросаются в глаза; на ногах изящные босоножки; темные, раскосо удлиненные очки придают ей какой-то стрекозий вид. Свободной рукой поваживает, далеко отводя ее в сторону, словно боясь прикоснуться сама к себе. Не узнали? Еще бы, сами шумилинские жители не вдруг догадались про Нинку Соборнову, ту, что работает продавщицей в ленинградском универмаге: снова в отпуск приехала. Перед кем щеголяет, кого удивляет? Женихов в Шумилихе нет и не предвидится. В пору бы за границу двигать с таким-то обличьем. Даже гусак Карпухиных и тот, завидев ее, рассерженно шипит.
Когда Нинка проходит мимо кузницы, Андрей Александрович бросает работу, опершись на кувалду, поставленную на порог, смотрит с нескрываемым любопытством, как на живое кино. И обязательно заденет ее словцом:
— Здорово, красавица! Опять загорать?
— А что же еще?
— Смотрю, у тебя каждый день курорт, небось умаялась на берегу-то валяться?
— В отпуске отдыхаю, как хочу, — с капризной ноткой в голосе отвечает она.
— Нинка, ты нашим заулком поаккуратней ходи — у нас гусак злой, он тебе устроит трепака. Хе-хе!
— Чихала я на вашего гусака!
Невозмутимо продолжая движение все той же вызывающей походкой, Нинка спускается наискосок по угору к Портомоям, расстилает на траву байковое одеяло и, скинув халатик, ложится загорать: если лежит на животе — читает книгу, если на спине — мечтает, глядя сквозь очки в сказочно-фиолетовое небо. Возраст ее критический, позагулялась, поэтому чаще всего мечтает о какой-то необыкновенной, не как у всех, любви.
Читать скоро надоедает. Сонно позевывая, разомлевшая Нинка подходит к воде, боязливо ступает на песчаную отмель. Купаться она не будет, потому что олень уж хвост обмочил — вода холодна. Любуясь переливчатым стрежнем быстрины, Нинка дает пескарям пощекотать свои загорелые ноги. Ей спешить некуда, вот уж кто может вдосталь наслаждаться рекой! Потом она смачивает водой грудь и плечи и продолжает загорать: долго неподвижно стоит, разведя в стороны руки и запрокинув голову, точно хочет поймать на себя все солнце.
В кузнице смолкает звон наковальни: Андрей Карпухин выходит покурить, вытянув ходулю, устраивается на срубе ошиновочного станка. Здесь его застава, его предел, потому что маршрут у него один — от дому до кузницы и обратно. Поглядит с высоты угора на притуманенные лесные увалы, на уставленные стогами луга, на извивы словно бы застывшей блескучей песомской струи — и тому душа рада, как-то потревоженно и щемливо отзывается.
Сейчас он, насмешливо прищуривая серые глаза, наблюдает за Нинкой: долго ли она будет изображать статую? «Ну не холера ли! Смотри, каким манером ногу-то выставила: не подумаешь, что у нас в деревне выросла такая чертова кукла, — изумлялся он. — Видать, в голове-то ветерок подувает. И парней не стало, хоть бы кто-нибудь пополошил курортницу. Эх, чудеса!» Так и ушел в кузницу, не дождавшись, когда Нинке надоест позировать солнцу…
Придирчивей всех относился к Нинке ее дед Никита Парамонович, очень удручало его такое легкомыслие. Раз, когда внучка, проснувшись, вошла из горницы в избу и начала снимать перед зеркалом бигуди, он поскандалил с ней.
— Рано ты седня встала — часов десять, должно, есть, — едко заметил он.
— Все равно не выспалась.
— Вон уж люди с покоса идут. Хоть бы помогла матери, дрыхнешь до такой поры.
— Я косить разучилась. — Потягиваясь, Нинка ломалась перед зеркалом.
— Мать-то балует, а вот тебя, девка, чем учить надо, — потряс палкой. — Почто ты над собой такое издевательство учиняешь? Были волоса как волоса, стали точно лисий лоскут. Только и заботы, что накручиваешь эти побрякушки.
— Не побрякушки, а бигуди.
— Эк, названьице! — поморщился старик. — Чего только не выдумают! Ну-к, не диво ли — рыжие лохмы!
— Самый модный цвет. Ты, дедушка, отстал от жизни. Твоя молодость была где? В прошлом веке, — с чувством превосходства отвечала Нинка.
Единственный раз пришлось встать Нинке рань раннюю, в день отъезда, и то Сергей Карпухин поторопил, подогнав к крыльцу машину, когда солнце только взялось над бором, жарко позолотив окна изб. Все лето возил он городников: то одного просят встретить, то другого, и никому не откажешь, особенно своим деревенским. Ближе к осени все, как перелетные птицы, тянутся в обратную сторону — в город. Вот и Нинке надо поспеть к ленинградскому поезду. Она уже села в кабину, а мать, Антонина, все суетилась, устраивая поудобней в ее ногах сумки, потом вдруг вспомнила, что забыли бидон с вареньем, сбегала за ним в избу.