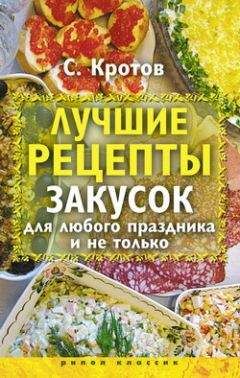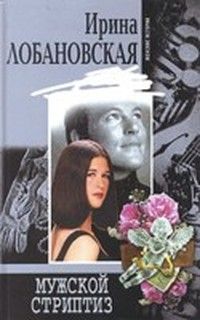Юозас Пожера - Рыбы не знают своих детей
Он отодвигает пустую миску и отдувается, словно за двоих наелся. Выбирается из-за стола, долго, старательно сворачивает самокрутку, прикуривает, выхватив из топки уголек, и устраивается на своем излюбленном месте у огня на низкой, сколоченной собственными руками скамейке. Слышит, как женщины громыхают посудой, видит, как Стасис подходит, останавливается за спиной, потом кладет ему руку на плечо и снова спрашивает:
— Чего такой кислый, брат?
Хочется послать его к черту, сказать, что все у него шиворот-навыворот: люди дома, хозяйство бросают, режут скот, даже озимые оставляют на милость судьбы и бегут в город, а он… Но вместо этого лишь кротко оправдывается:
— Сегодня деревья клеймил… — И снова перед глазами возникают следы, оставленные на раскисшем снегу. «Что изменится, если даже посоветуешь? Ведь не послушается, не отступит от своего. Упрямый, как мать, царствие ей небесное. Она тоже, бывало, ни на вершок со своей дороги». — Намучился по лесу бродить, — говорит он, бросает обсосанный окурок цигарки, накидывает на плечи полушубок и идет во двор.
После дневной оттепели мороз снова сковал землю, хрустит снег, со звоном крошится под ногами ледяная корка. Уже сколько времени так: днем припекает, ночью выстуживает. Небо чистое, утыканное звездами. А деревня спит. Нет света на кухне старого Кунигенаса, уже улеглось и семейство Билиндене. Во всей деревушке темно, только в избе Ангелочка еще мерцает огонек коптилки. Рано теперь люди ложатся. Многие и вовсе не зажигают света, вместе с курами отправляются спать. Всю прошлую осень и всю зиму так было. Даже скотину обихаживать приноровились без огня, ощупью, словно темные окна избы отпугнут непрошеных гостей и они постесняются постучать в окна спящих и пройдут мимо. Порой кажется, что деревушка вымерла, — такая глухая тишина висит над съежившимися избушками. Раньше, бывало, ночь напролет то в одном, то в другом дворе перебрехивались собаки, и их лай, откатившись от стены леса, эхом долго блуждал по деревушке. Не стало собак, они — в земле. И Маргис в земле. Осталась лишь покосившаяся, прильнувшая к сараю конура и ржавая цепь, валяющаяся на земле. Маргис уже не прибежит. Лежит зарытый под березой за сараем. Все собаки деревни перебиты собственными руками хозяев. Чтобы спокойнее было, как говорили те. Только Ангелочек своего Рекса пожалел. Спустил с цепи и силой гнал со двора, но пес вертелся вокруг, вилял хвостом у ног хозяина, не понимая, чего от него хотят, и казалось, что он все еще прикован к невидимой цепи. Он крутился у конуры, не выходя из полукруга, вытоптанного за долгие годы, за которым начинался неведомый, для него всегда запретный мир. Ангелочек гнал его со двора, бил палкой, а пес валился на спину, задирал лапы и с грустным упреком смотрел на обезумевшего хозяина. Тот вздыхал и матерился, наконец ухватил собаку за загривок, волоком дотащил до леса, там еще раз побил и оставил на милость божью. Потом, едва только Рекс пытался вползти во двор, Ангелочек бросался на него как зверь, не жалея ни палок, ни камней, кидал что попадало под руку. Со временем пес понял, что нельзя ему возвращаться в дом, который столько лет честно сторожил. Что он ел — тоже одному богу известно. Но люди иногда видели его у леса, высохшего, со взъерошенной шерстью, поджатым хвостом, целыми часами недвижно глядящего на дом. А иногда ночью, когда выплывала полная луна, раздавался одинокий протяжный вой, от которого мурашки бежали по спине — столько в этом вое было безысходной тоски, боли и обиды. А сам Ангелочек еще и теперь иногда ни с того ни с сего останавливается посреди двора и долго смотрит в сторону леса… Погас свет и в его избе. Как будто кто-то огромный, пришедший из темной ночи, с усеянного звездами небосвода, нагнулся к избе и задул огонек, как ветер свечку в день поминовения. Теперь деревня и правда словно вымерла. Ни огонька, ни звука. Дикие утки и те голоса не подают. А ведь не улетели, никуда не делись. Еще в начале зимы собрались на Версме целые стаи. Речушка вытекает из озера и даже в самые лютые морозы не замерзает. Ниже деревни она не в силах устоять перед стужей — покрывается льдом, а тут не замерзает, всю зиму живая: потягивается в омутах, журчит среди камней, окутанная белесой шалью пара. Даже теперь, при блеклом свете звезд, нетрудно рассмотреть ленту густого пара, похожую на расстеленный для отбеливания холст.
Винцас стоит у угла сарая, смотрит на спящую, опоясанную со всех сторон лесом деревню и пытается распутать клубок своих невеселых мыслей, стараясь отыскать конец ниточки. Но все усилия, как и прежде, тщетны. И поэтому не только не приходит облегчение, а, наоборот, становится еще невыносимее, так как он понимает, что никто другой за него не сделает этого. Придется самому. Было бы легче, если бы он был один. А теперь в его шкуре сидят два Винцаса, два Шалны. Странно, смешно становится, когда глядишь на себя со стороны: один идет, работает, с людьми разговаривает или ругается, а второй стоит в стороне и наблюдает за всем. Иногда этот другой, он и не он, идет по деревне, сидит в лесничестве, спит с его бабой… Сколько может продолжаться эта мука?
Ночная стужа лезет под полы распахнутого полушубка, крадется к пояснице, ползет за пазуху. Начинает пробирать дрожь, и Винцас с грузом тяжких мыслей возвращается в избу.
Женщины уже прибрались, на столе — горка чистой посуды; словно волчий глаз, мерцает керосиновая лампа. Мария лежит, прижавшись к стене, оставив большую часть кровати ему. Он бросает взгляд на закрытую дверь комнаты, задувает лампу и, скинув на лавку одежду, забирается в согретую постель.
Боже мой, какая благодать вытянуться, закинуть за голову руки, вздохнуть полной грудью, чувствовать прохладу пухлой подушки, легкое прикосновение перины… и знать, что до утра еще долгие часы весенней ночи. Набитые за день ступни горят, словно покалываемые сотнями иголок. «Меня, как и волка, ноги кормят», — подумалось Винцасу. На самом деле, как и тому волку, всего достается: дождь ли тебя поливает, мокрый снег или стужа дух захватывает, зной душит или сугробы непроходимые, а ты иди, словно бездомный зверь… Еще хорошо, что охотник не подкарауливает… Не подкарауливает? Тех, чьи следы он сегодня заметил, точно подкарауливают. По следу, как за матерыми волками, идут. Они, конечно, тоже. Охотится человек на человека: или я тебя, или ты меня. И не сегодня, не вчера это началось. Испокон веков так было итак, наверное, будет. Только хоронить красиво умеем. А пока живы — грызем друг друга без жалости. С наслаждением грызем.
Рука Марии подкрадывается, ладонь скользит по груди и нежно обнимает его плечо. Потом замирает под подбородком, прижимает адамово яблоко, и Винцас чувствует биение ее пульса. Кровать — настоящая западня: места вроде бы даже для троих с избытком, а ляжешь — двоим тесно. Даже вздохнуть свободно не можешь.
— Чего ты такой? — шепчет под ухом.
Он молчит, так как знает, что не скажет правду. Слишком тяжела и слишком запутанна эта правда, чтоб сразу взять да выложить ее. Поэтому только дергается, вытаскивает из-под перины руки, прижимает к бокам, словно солдат, и еще раз вздыхает. Теперь его правая рука как бы предостерегает — дальше нельзя. И как только Мария не устает, из сил не выбивается? Не увидишь ее сидящей сложа руки, день-деньской наполнены ею и изба и двор, всюду успевает, со всем управляется, да еще и ночью не сразу засыпает. Сохраняет и зной и ласковость. Эта ласковость особенно терзает его. Винцас не может отплатить тем же. Что вчера было желанным и милым, сегодня стало гнетущей, отвратительной обязанностью.
— Чего же ты такой? — шепчет Мария на ухо.
Ему и стыдно, и зло берет. Может, пожалел бы, успокоил, но чувствует свою мужскую немощь и знает, что чудес не бывает.
— Устал, — оправдывается он дневными заботами и вполголоса рассказывает о раскисшем, непролазном снеге в лесу, о том, что с ног сбился, помечая деревья, что лесорубы все нервы издергали и работают абы как, спустя рукава.
— Не переживай, — утешает Мария, поглаживая его грудь. Не утешает, а старается пробудить в нем мужчину.
— Завтра много народу приедет, — говорит он, широко зевая, — из Кабяляй, Баранавы, Маргакальниса. Не знаю, куда уложить всех.
— Так они не на один день? — застывает рука Марии на плече, а он так и сыплет словами, лишь бы эта рука не шевелилась.
Говорит о поставках леса, о нехватке времени, о ругани, сыпавшейся на его голову, говорит зло, как будто во всем виновата она, Мария. Потом заканчивает:
— Устал, — и поворачивается на бок. Через некоторое время начинает мерно дышать, как уснувший человек, не имевший за день ни минуты передышки. Лежит с открытыми глазами, смотрит на белеющую в темном квадрате окна занавеску и внимательно прислушивается, словно заяц, навострив уши. Слышит, как Мария, словно стыдясь, тихо вздыхает, как утыкается в огромную, набитую гусиным пухом подушку, как судорожно мнет руками угол перины и наконец стихает, смиряется. Ее дыхание становится ровным, спокойным… Спит. А он не может заснуть. Осторожно переворачивается на спину, смотрит на черный потолок, ловит каждый звук оттуда, из-за тонкой дощатой перегородки. Слушает, ощущая гнетущий стыд. Господи, он бы все отдал, лишь бы мог заснуть и ничего не слышать. Но лежит с открытыми глазами и слушает; сдерживая дыхание, слушает, что творится там, за дощатой перегородкой. Наконец до его слуха доносится едва слышный шепот. Слов не разобрать, шепот ровной, спокойной волной льется, а ему кажется, что это ползет по мягкому мху какой-то неизвестный, ядовитый гад… И омерзительный, и манящий.