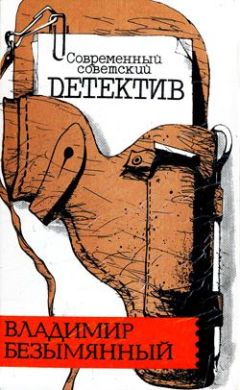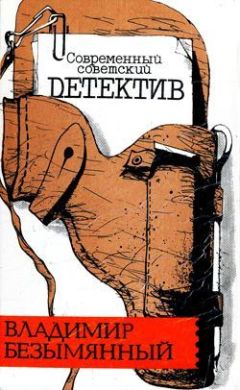Анатолий Ананьев - Версты любви
Когда я вошел во двор сортоиспытательного участка, веснушчатый внук сторожа Никиты — Михаил, заметно подросший за эти почти два года с тех пор, как я впервые увидел его, запрягал серого беззубого мерина в сани; он заводил старую, изработавшуюся и уже с безразличием и покорностью ступавшую в оглобли лошадь и, увидев меня, только взмахнул рукой, как это делали чигиревские мужики, знавшие цену времени и соблюдавшие достоинство, и продолжал свое дело; упираясь полусогнутой ногою в обшитое кожей деревянное плечо хомута, он затягивал супонь, когда я, совсем уже почти приблизившись к нему, спросил:
«Далеко собрались, Михаил?»
«В поле», — неторопливо, как будто даже неохотно ответил он.
«Чего это вы? Кто вас гонит?»
«А я что...»
«Там же снег по брюхо вашему мерину!»
«А я что... Я... вон, велят», — докончил он, уже расправляя вожжи и кивком головы указывая на того, кто как раз и велел запрягать и теперь будто стоял за санями.
Я посмотрел, куда он указывал, и увидел спустившегося с крыльца Федора Федоровича. Он был в полушубке, шапке и валенках, во всем том, в чем я привык видеть его зимою, и стоял так же, чуть раздвинув для прочности ноги (а знаете, есть еще в этой позе нечто такое: мое, мол, я хозяин здесь, и не сдвинешь!), как встречал прежде, и, казалось, вот-вот зазвучит его наполненный отцовской теплотою голос: «Эк кто к нам! Дарья! Дарья, ставь самовар!» — затем возьмет меня под руку и поведет в избу, а Никитиному внуку скажет, что поездка отменяется и чтобы он распрягал мерина и шел домой, но ничего этого не случилось, Федор Федорович не торопился ни отменять свою поездку, ни произносить приветливые слова; он оглядывал меня молча и так, будто видел впервые, и даже будто был удивлен, зачем, дескать, явился к нему этот неприятный молодой человек? Я хорошо помню это выражение в его холодном старческом взгляде. Он не здоровался, мне тоже не хотелось первым произносить «Здравствуйте», и я лишь чувствовал, что с каждой секундой, пока мы смотрим друг на друга, все сильнее и сильнее поднимается во мне неприязнь к этому коренастому, с короткою шеей человеку, и неприязнь свою — я чувствовал и это — не в силах был ни подавить, ни скрыть от Федора Федоровича.
«Н-ну, явились?» — спросил наконец Федор Федорович, продолжая, однако, с прежним как будто равнодушием смотреть на меня.
«Да, как видите».
«Посевную сорвали?»
«Пока нет».
«Чего там «пока», сорвали, милостив-с-сударь».
«Я пришел к вам, Федор Федорович...»
«Поздно пришли. Вы, милостив-с-сударь, уже, по существу, уволены».
«Как?!»
«Не «как», а вернее было бы: «За что?» За то, что сорвали подготовку семян к посеву. Бумагу на вас я еще на той неделе отправил в управление, так что на днях выйдет приказ», — добавил он все с тою же непривычною, во всяком случае для меня, как я знал его, холодностью в голосе.
В первое мгновение я, разумеется, не поверил тому, что сказал Федор Федорович; мне показалось, что я не понял; я ожидал чего угодно, только не увольнения, и потому — теперь уже с испугом и недоумением — продолжал глядеть на Федора Федоровича.
«С бригадиром вы не умеете ладить, с народом тоже, — снова начал Федор Федорович, — а я, милостив-с-сударь, ни работать, ни тем более отвечать за вашу разболтанность не намерен».
«Но я как раз...»
«Хотите возразить? То есть обжаловать, конечно, можно, этого никто вам не запретит, но скажите лучше, очищены семена?»
«Нет».
«Протравлены?»
«Нет».
«Так чего же вы хотите? Март на дворе, милостив-с-сударь. На вашем месте я бы сделал только одно — подал заявление. Приказ я постараюсь изменить, и это все, что могу обещать вам. Да, все!» — уже раздраженно закончил он.
Усевшись в сани и обронив Михаилу: «Трогай», — он для чего-то, хотя было безветренно и неморозно, поднял меховой воротник полушубка, и пока серый мерин вытягивал сани на дорогу, ни разу не обернулся и ничего больше не сказал мне. Я же остался один посреди опустевшего заснеженного двора, не зная, что делать, куда пойти, кому и что сказать о случившемся. «Неужели правда? — думал я. — Неужели действительно Федор Федорович уволил меня вот так, сразу, не приехав, ничего не узнав, не поговорив? Да и там, в управлении?..» Теперь-то я знаю, что вот так просто нельзя уволить человека и что никаких, конечно же, документов Федор Федорович не составлял и не отправлял в управление (удивляюсь, как я не мог сообразить тогда, что на это у него просто не хватило бы решимости!), а говорил лишь по наущению Андрея Николаевича («Он даже угрожал Федору», — утверждала потом Дарья, таясь от мужа), и говорил для того, чтобы я испугался и подал заявление, и я, разумеется, подал его, все так и вышло, как замыслил, желая избавиться от меня, заведующий Краснодолинского районного земельного отдела, но что толку, что теперь-то я все знаю, и что из того, что с сожалением думаю, что мог бы не подавать заявления, и не была бы тогда надломлена жизнь, и не мучили бы меня те мрачные мысли о справедливости и несправедливости, которые и сейчас нет-нет да и тревожат сознание, и я начинаю с опаской поглядывать на людей; в самом деле, что толку в запоздалых открытиях, когда ничего уже нельзя ни изменить, ни исправить, жизнь уже определена и прошлое остается лишь уделом дум и воспоминаний? Я стоял посередине двора, лицом к воротам, и не мог, естественно, видеть того, что за спиною из окна, отдернув шторку и прильнув к стеклу, наблюдали за мной все три дочери Федора Федоровича вместе с женой, Дарьей; некрасивые лица их, сплющенные у стекла, показались мне еще более неприглядными, почти уродливыми, когда я, может быть, оттого, что почувствовал, что на меня смотрят, на миг оглянулся и увидел их; я тоже, как и Федор Федорович, хотя никакой нужды в этом как будто не было, зло поднял воротник полушубка и зашагал, не оборачиваясь на окна ненавистного мне теперь дома. В ту минуту я еще не думал, что напишу заявление; мне еще казалось несправедливым решение Федора Федоровича, и я пытался найти оправдание себе. «Не я сорвал подготовку семян, нет!» Я то и дело возвращался к только что состоявшемуся разговору с Федором Федоровичем, и так как на все вопросы, какие задавал он: «Очищены? Протравлены? Проверены на всхожесть?» — по-прежнему ответ был только один: «Нет!» — постепенно начал сознавать, что возражение бессмысленно, что оправдания, в сущности, нет и, главное, что все может повториться, как с моштаковскими хлебными ларями, которые были же в кладовой, я сам открывал крышки и черпал ладонью зерно, но кто, кроме меня, может теперь подтвердить, что они были? Никто. Ларей не нашли, а значит, для Подъяченкова, Игната Исаича, для всех их просто не существовало. Я думал так, шагая по улице Чигирева, и не заметил, как очутился возле избы Игната Исаича. Ясно понимая, что мне вовсе не нужно заходить к участковому уполномоченному, я между тем прошел во двор и постучал в окно. И почти тут же в дверях появилась жена Игната Исаича, Мария.
«Добрый день, — сказал я. — Игнат Исаич дома?»
«Его нет».
«Ага. А когда будет?»
«Не знаю. Он в До́линку уехал».
«Ага. Ну извините».
Прямо от него я отправился к Подъяченкову, но и парторга дома не было; русоволосая дочь его, отвечавшая на мои вопросы, сказала, что отец ушел в правление колхоза, и я, опять-таки не представляя толком, для чего нужен мне Подъяченков, зашагал в центр Чигирева к правленческой избе. Но Подъяченкова не оказалось и там; лишь главный бухгалтер колхоза, как всегда, сидел за своим заваленным сводками, нарядами и ведомостями столом, и когда я, открыв дверь, спросил у него, где Подъяченков, не знает ли он, и где председатель, он как будто недоуменно уставился на меня своим округлым стеклянным с фронта глазом (кстати, сколько я ни встречался с ним прежде, всегда складывалось впечатление, что бухгалтер смотрел именно этим выпученным стеклянным глазом, а не вторым, нормальным, вернее, целым, который обычно бывал полузакрыт, прищурен) и только после долгой, причину которой я понял не сразу, паузы ответил:
«Они все в До́линку уехали, на совещание».
«А когда вернутся?»
«Этого сказать не могу».
Он продолжал смотреть на меня, и хотя я не мог уловить выражения его прищуренного глаза, но по округлому, стеклянному, а скорее по черточкам и морщинам, как они располагались на лице, понял, что вовсе не из простого любопытства, ну, скажем, давно не видал, ведь бывает и так, смотрел на меня главный бухгалтер колхоза. Он, конечно, знал всю мою долгушинскую историю, но знал, разумеется, лишь то и так, как говорили об этом мужики и женщины в Долгушине и Чигиреве, и в его понимании, как, наверное, в понимании многих, я выглядел клеветником, наветчиком, и именно это его недоброе любопытство сразу же неприятной болью отозвалось на душе; я тоже неприязненно взглянул на него, будто он и в самом деле был виноват в том, что знал только ту правду, что была известна всем, и не знал другую, которая не позволила бы ему теперь так осуждающе-насмешливо оглядывать меня. «И ты — все заодно», — беззвучно проговорил я, закрывая дверь и направляясь к выходу.