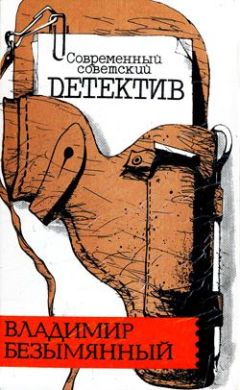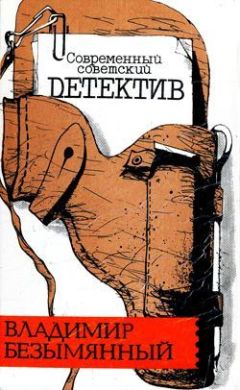Анатолий Ананьев - Версты любви
«А теперь что? Куда?»
«Учиться».
«В институт?»
«Да».
«И Виталий в институт, и Света вот тоже...»
«Я на вечерний, мама».
«О боже, да чего уж на вечерний, разве я против?»
Вот так, про себя, беззвучно, я разговаривал с матерью, вернее, воображал этот разговор, стоя перед низким окном в своей долгушинской комнате. Что еще более веское я мог придумать, кроме того, что пойду учиться в институт? Мне казалось, что вообще весь свой приезд я мог объяснить учебой, что, дескать, не хватает знаний и что без высшего образования сейчас невозможно стать хорошим специалистом; но вместе с тем — как ни убедительными даже самому себе представлялись эти доводы — я понимал, что ничем не смогу снять тот горький осадок, какой останется у нее на душе от моего возвращения.
В соседней комнате, за дверью, я знал, Пелагея Карповна и Наташа сидели и ждали, когда я выйду, чтобы проститься со мной. Пелагея Карповна с рассветом ушла было на бригадный двор, так как не хотела, наверное, видеть меня в это утро, но потом почему-то передумала, вернулась, и я слышал, как она, хлопая дверьми, шумно входила в избу. Я уже привык, что после истории с моштаковскими ларями она относилась ко мне холодно, отчужденно, как, впрочем, относились и другие долгушинские мужики и женщины, но если для других я был лишь агрономом, лишь требовал работу, то Пелагея Карповна, я справедливо полагал, знала обо мне все, и уж кто-кто, а она-то могла понять меня и не осуждать, как другие; да, именно так я думал, и, может быть, поэтому у меня тоже вырабатывалась своя, если можно сказать, неприязнь к Пелагее Карповне, и мне тоже теперь, напоследок, не хотелось видеться с ней. Наверное, я только потому и стоял у окна в комнате, что надеялся, что Пелагея Карповна снова уйдет на бригадный двор.
Занятый этими думами, я не заметил, как приоткрылась дверь и в комнату заглянула Пелагея Карповна.
«Вы едете сегодня или не едете?» — спросила она так, будто в том, еду я или не еду, заключалось для нее что-то важное, что ли.
«Ухожу, — ответил я. — А что?»
«Гришка подъехал. Он в Чигирево, так что...»
«Какой Гришка?» — сердито переспросил я.
«Господи, да приемный сын нашей соседки, Лобихи. Я уж к нему бегала, а то куды, думаю, с чемоданом-то и узлом в слякоть такую!»
«Я не просил вас».
«Да уж подъехал. Иди. Чего уж».
Чуть помедлив, я все же вскинул на плечо рюкзак, взял чемодан и молча, не прощаясь ни с Пелагеей Карловной, ни с Наташей, вышел во двор.
У ворот и в самом деле стояла подвода.
Я только спросил:
«В Чигирево?»
«Да».
Бросив чемодан и рюкзак на колкие объедки сена, которыми была наполнена телега, и умостившись рядом с вещами, я негромко и недовольно проговорил: «Поехали», — приемный сын Лобихи, лет четырнадцати парнишка, щелкнул вожжой по сытому крупу бригадной лошаденки, и телега, разрезая колесами мягкий водянистый снег, двинулась вниз по улице к ребристому и уже просохшему от снега бревенчатому мосту.
Я смотрел вниз, под колеса, на землю, на свои болтавшиеся над дорогою ноги, и только после того как телега, протарахтев по бревенчатому настилу моста, начала медленно, раскачиваясь и почти по самые ступицы утопая в размякшей и разъезженной колее, подниматься по взгорью и все избы Долгушина остались позади, разогнул спину и взглянул на удалявшуюся деревню. Десятки раз я видел ее с этой же вот рассекавшей пашню дороги, отправляясь в поля то пешком, то на коне, рыжем бригадирском жеребчике, которого нет-нет да и уступал мне в те дни Кузьма Моштаков, и весной ли, когда все вокруг бывало покрыто зеленью: и тальник у речки, и покосный луг за тальником, и дальше — квадраты тронувшихся в стрелку озимых и яровых, словно подновленные и сиявшие свежими на солнце красками, летом ли, когда по желтому хлебному раздолью, как нестихающий прибой, одна за одною, прижимая тяжелые колосья к земле, накатывались волны почти под самые завалинки долгушинских изб, осенью ли, когда все как бы уменьшалось, сливаясь и выцветая за синею и беспрерывно моросящею сеткой дождя (я часто и теперь слышу глуховатые звуки ударявшихся о брезентовый плащ и капюшон тех дождевых капель, и, знаете, какая-то никем, разумеется, не записанная еще, непостижимая мелодия оголенных полей начинает слышаться в этих звуках, и беспричинная, тяжелая грусть ложится на душу), да, десятки раз именно с этой вот уходившей в гору дороги смотрел на мило прижавшуюся к речке небольшую, всего лишь колхозная бригада, деревеньку, и мне всегда казалось, что ничего нового я уже не смогу открыть в ней и что то чувство любви, которое оживало во мне каждый раз при виде этих приземленных и почерневших бревенчатых изб, неповторимо, неизменно, и что нет и не может быть ничего выше этого чувства. Но мы просто не знаем, на чем кончается наша любовь, и кончается ли она вообще, и где граница радостям и горю. Я как будто ненавидел Долгушино и уезжал, как уже говорил, злой и опустошенный, даже вот, видели, не простился ни с Пелагеей Карповной, ни с Наташей, но злость моя, и с годами я все больше начинаю понимать это, была лишь той некрасивой скатертью, какою иногда закрывают полированную поверхность стола; мне жаль было расставаться с работой, землей, людьми; я не думал, как прежде бывало, когда еще не знал о моштаковских хлебных ларях, как много готов был сделать полезного и доброго людям — да мало ли что! — я чувствовал в себе столько силы, что не оглоблю, а бревно, бросившись, мог бы легко перешибить плечом! — нет, я не думал ни о карте севооборота, которая была уже почти закончена и которую я для чего-то увозил с собой, ни еще о чем-либо, что удивило бы и обрадовало сельчан и сделало их (не только долгушинцев, но и чигиревцев, и дальше — всех на земле!) счастливыми, но желание это, желание совершить большое и доброе, какое разбудили когда-то в душе эти же вот Долгушинские взгорья, как бы само собою продолжало жить во мне, и потому я с тоской смотрел на проступавшую из-под снега на склонах черную оттаявшую землю. Я не помню, чтобы мальчишка-кучер что-нибудь спрашивал или вообще пытался заговорить со мной; может быть, и оборачивался и смотрел на мою сникшую спину, а может, просто понимал то состояние, в каком находился я, и потому сидел молча, даже не покрикивал на лошаденку, чтобы не нарушать то течение чувств и мыслей, какое с первой же минуты, когда еще телега только тронулась от ворот, захватило меня (а впрочем, мы эгоистичны; я говорю о себе, тогда как он мог думать о своем; ведь у него была своя жизнь, свои заботы!); но так ли иначе ли, я был так возбужден и сосредоточен, что ни вязкой дороги, ни чьего-то приемного сына, ни самой телеги, на которой ехал, как будто не существовало вовсе, а была только и позади и по бокам покрытая осевшим, подтаявшим снегом земля, которую я видел и цветущей, и оголенной, сырой, размякшей, когда она, как роженица, подарив жизнь, укладывалась на отдых под белое снежное одеяло, и на осиротевших без листьев стебельках, как застывшие слезы мучений и счастья, поблескивали льдинками запоздалые осенние росы. Вы можете не согласиться со мной, да, пожалуй, и не согласитесь и будете правы, потому что каждый человек, конечно же, живет своим воображенным ли, или еще как-нибудь можно назвать его, миром, но я не преувеличиваю, и уж вовсе не от желания сказать красиво хочу сравнить ваши чувства к Ксене со своими, какие испытывал я к Долгушинским взгорьям; они казались мне такими же прекрасными и неповторимыми, как вам Ксеня; в Чите, в Антипихе, в Москитовке, наконец, здесь, в Калинковичах, в этой вот самой гостинице — в любую минуту вы могли представить лицо Ксени, ее серые и серебрившиеся в свете висевшей над столом керосиновой лампы косы, ее улыбку, любое движение ее лица, которое не нужно вам объяснять, всю ее понятную и близкую вам доброту, так и для меня Долгушинские взгорья (и не только в тот пасмурный и холодный весенний день, когда я, в сущности, глядя на них, навсегда будто прощался с ними) имели свое лицо, имели понятную мне и близкую свою добрую душу, я знал, казалось, каждую проведенную на них борозду, каждый заросший травою огрех, каждую неополотую межу, и все это сливалось в одно целое, что дарило мне счастье и от чего я уезжал теперь, как отвергнутый, не понятый и не оцененный этой же вот землею, над которой будто все ниже и ниже нависали косматые и черные дождевые тучи, людьми, что сидели (конечно, они не сидели, а каждый занимался своим делом, и с бригадного двора давно уже выехали занаряженные арбы на ферму, но мне так казалось, что сидели) по своим удалявшимся сейчас от меня избам, и больнее всего было сознавать именно это, что не понят и отвергнут. Я видел и моштаковское подворье, и дом Пелагеи Карповны, и старую заброшенную мельницу, где в летние короткие вечера оживал натягивавшийся белый экран, и видел уменьшавшуюся свинцово-серую полоску реки с тальником и мостками, и хотя река была уже не замерзшей — еще неделю назад лед сорвало и теперь шла редкая, неопасная и бесшумная шуга, минутами вдруг все преображалось для меня, я снова пробирался по оголенному и местами заснеженному льду, оглядываясь и чувствуя, что кто-то следит за мной, и вот уже одно за одним с глухим шумом падают за спиною поленья и зловеще скользят по толстому и шершавому льду. То нападение, знаете, до сих пор не изгладилось из моей памяти, и бывает иногда страшно оттого, что люди, именно люди, разумные существа, с неизмеримой, я бы сказал, подлой жестокостью набрасываются на себе подобных. Хотя никто больше не швырял в меня поленьями и даже как будто признаков, чтобы угрожали, не было, но в ту зиму я так и не выходил по вечерам из дому; я хорошо помнил обо всем этом, и когда смотрел на избу Пелагеи Карповны, невольно задерживал взгляд на дровяном сарае, где в целости и сохранности еще стояло унесенное туда и прислоненное к стенке сучковатое березовое полено. «Кто же все-таки бросал? — опять спрашивал я себя, не замечая, как раскачивается на вязкой дороге телега. — Не сам же старик Моштаков? Я же чувствовал, — продолжал рассуждать я, припоминая залитый лунным светом ночной двор, подводу, мешок с мукой, который проносили на остекленную веранду мимо стоявшего в кальсонах и нательной рубашке заведующего райзо, припоминая лишь те подозрения, какие возникли тогда, сразу же, и не думая больше ни о чем, будто ничего другого не было в тот вечер и я не восторгался ни жизнью, ни умом, ни, наконец, достатком Андрея Николаевича. — Да, чувствовал, — продолжал я, — но разве мы когда-либо полагаемся на себя? Мы не верим себе, глупцы, и потом дорого платим за это». Я говорил еще в этом роде, с горечью разбирал свои ошибки, ни на мгновение, однако, не отрывая взгляда от унылых, лишь с черными пролысинами на подтаявшем белом снегу взгорий, которые обладали еще большей как будто притягательной силой. Снова и снова они вызывали во мне затаенные добрые чувства, и эти чувства так же, как обида и горечь, одинаково тревожили. Я увозил с собою два мира — любви и ненависти, — которые существовали независимо от меня, я казался себе зажатым между этими противоборствующими силами, и как ни старался плечами, разумеется мысленно, в воображении, раздвинуть эти невидимые давившие стены, чтобы хоть развернуться лицом к злу и освободить руки, ничего не получилось, и я лишь, молчаливо сидя в телеге, сутулился под тяжестью пережитых событий. Когда скрылось из виду Долгушино, я не заметил; мне кажется, что до самого Чигирева, до той минуты, пока парнишка, остановив лошадь возле правления колхоза, не сказал громко и неожиданно: «Приехали!» — серые соломенные крыши долгушинских изб все еще будто, как не свезенные с осени осевшие прошлогодние стожки, вырисовывались на удалявшемся снежном горизонте.