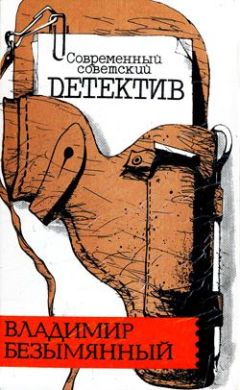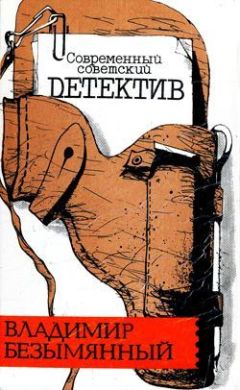Анатолий Ананьев - Версты любви
«Ну чего? — неохотно проговорил наконец он. — У меня-то, поди, ларей нет. Али и у меня шарить будешь?»
«Да вы что? Я только хотел...»
«Чего хотел?»
«Хотел узнать, не брал ли кто лошадей в тот день, ну, накануне, когда, помните, к Моштакову...»
«Эк, чего захотел. Лошадей кажный день берут и кажный день ставят, и на то бригадир есть, у него и спрашивай. Ну, еще чего?»
«Так брал кто лошадей или не брал?»
«Нет».
«Ефим Семеныч, дело серьезное».
«Никто не брал, чего еще?»
«Это точно?»
«Чего еще, говорю?»
«Больше ничего, извини, — сказал я, даже вроде как бы слегка отстраняясь от него. — Больше ничего, все».
Какие-то доли секунды мы еще смотрели друг на друга: я с недоумением, потому что мне непонятно было это изменившееся ко мне отношение одноногого конюха, он же по-прежнему настороженно, с явным недружелюбием, которое было и в глазах, и во всем, может быть, от яркого белого снега сощуренном лице; ни я, ни он не произнесли того, что обычно говорили друг другу при расставании: «Ну, здравствуй-бывай», а молча: он зашагал к своей избе через двор, вминая деревянным костылем и без того утоптанный на дорожке снег, а я — к себе через всю зимнюю и потому как будто малолюдную деревню. Лишь возле школы и у входа в маленькую бревенчатую лавку сельпо было заметно оживление; возле школы дети с горы катались на санках, а здесь, возле лавки, беседовали между собою собравшиеся долгушинские мужики; но и этого малого было вполне достаточно, чтобы, как говорится, ощутить на себе действие сказанных, помните, в конюшне Моштаковым слов — мир осудит. Когда я поравнялся со школой, дети вдруг, словно по команде, выстроились в ряд, держа кто на веревочках, кто прямо перед собою в руках санки, и все смотрели на меня — какими же были те семейные разговоры, если детишки даже перестали кататься, завидев меня; когда подошел к лавке сельпо, вернее, к собравшимся полукружьем мужикам, как это делал всегда, чуть наклонил голову и приподнял шапку здороваясь, никто не ответил на приветствие; лишь молодой парень, Петр Рожков, стоявший рядом с отцом кивнул было мне, но отец, и это на виду, не скрывая, дернул его за полу телогрейки так, словно прикрикнул «Кому кланяешься!» — и парень мгновенно отвернул, и принялся уже смотреть куда-то вдоль улицы.
«Что случилось, мужики? — спросил я, называя по имени и отчеству всех, разумеется, хорошо знакомых мне долгушинских колхозников. — Почему не здороваетесь?»
«У нас хлебных ларей нет, — за всех ответил Рожков. — Да и баньки на задах не у каждого».
«Вы это к чему?»
«А к тому. Пойдем, Петр», — добавил он и, явно не желая больше разговаривать, зашагал прочь от сельповской лавки.
Следом за ним так же молча, отворачиваясь и будто виновато глядя себе под ноги, двинулись и другие, и я, пораженный этим неожиданным приемом, смотрел на их широкие удалявшиеся спины. Я и в самом деле не понимал, что произошло, потому что не для себя же старался, разоблачая Моштакова. Но доброе дело мое, как видно, не было для них добрым. В моем старании они улавливали что-то такое, что, может быть, касалось их самих, но разве я мог тогда хоть на секунду представить это? Я лишь чувствовал себя униженным, и от сельповской лавки шагал уже один пустынной улицей. Когда вошел в избу, помню, Пелагея Карповна сейчас же убежала к соседке; она вообще в последнее время все чаще уходила из дому, как только я появлялся, и хотя у нее были на это свои и довольно веские причины (я узнал о них позже, спустя уже много лет), но тогда я объяснял себе все просто: «Моштаков науськивает, а вы, эх, люди, не можете различить, где добро, где зло!» Постепенно я начал озлобляться не только на Моштакова, но на всех: «Раз так, раз не хотите понимать, пусть грабит вас Моштаков, скорее протрете глаза и осмотритесь!» В работе же я постоянно теперь как бы натыкался на стену. Федор Федорович требовал доставить снопики пшеницы в Чигирево, но бригадир Кузьма не давал лошадей, каждый день находил новый и новый предлог, с попутной тоже не удавалось отправить, так как ни конюх, одноногий Ефим Понурин, ни тот же Кузьма Моштаков не говорили, кто и когда едет в Чигирево, и в конце концов Федор Федорович прислал за снопиками свои сани, а вместе с ними и рассерженную записку. В ней было всего несколько слов: «Вы получаете зарплату, извольте выполнять свои обязанности!» Я прочитал записку с тем чувством обиды, какое не может не возникнуть, когда вы видите, что совершается над вами несправедливость; я ни минуты не сомневался, ото Федор Федорович знал, почему не отправлены вовремя снопики, что не сидел же я сложа руки, и бегал, хлопотал, и за что же тогда этот упрек?
«Вот видите», — показывая записку, сказал я подъехавшему на коне Кузьме Степановичу, когда Пелагея Карповна, я и помогавшая нам Наташа грузили снопики пшеницы на сани.
«Че это?»
«Почитайте».
«А че читать? Кому прислали? Тебе? Вот и читай».
«Должен вам напомнить, — хмурясь, продолжал я, — что вы обязаны обеспечивать сортоучасток и тяглом и людьми своевременно. Согласно договору, ясно?»
«Ниче я те не обязан. Есть — даю, нет — взять негде, а в договоре не сказано, чтобы с колхозных работ снимать и перегонять к вам, так что ты не учи меня».
«А сортоиспытательный участок существует разве не для колхоза?»
«Э-э, все для колхоза, а на деле выходит, ан, с колхоза все».
«Так что, к председателю мне идти, что ли?»
«Вона, дорога проторенная», — усмехнувшись, проговорил он и, чуть привстав в седле и обернувшись, указал сложенной в руке плеткою на тянувшуюся от замерзшей реки по некрутому склону наезженную и чуть темневшую на белом снегу санную колею.
С этого дня он почти не разговаривал со мной, и особенно трудно пришлось мне, когда началась подготовка семян к посеву. Если бригадир выделял людей, то бывал занят триер, и женщины до обеда лузгали семечки в настывшем плетеном сарае и затем расходились, а когда наконец я все же добивался триера, надо было бегать и собирать людей. Я снова просыпался чуть свет и, неумытый, в полушубке с поднятым от мороза воротником, торопливо шагал от избы к избе (разумеется, стучась к тем, кого бригадир занарядил с вечера), но колхозницы не спешили: то приходила одна, то другая, ждали напарниц и, не дождавшись, уходили, а вместо них являлись как раз те самые напарницы и тоже сидели, ждали и затем уходили, а на дворе между тем начинало смеркаться, короткий зимний день истекал, и я, рассерженный вконец, злой, опять отправлялся к бригадиру и просил оставить людей и триер на завтра. Но на следующее утро повторялось все то же, и еще на следующее — опять все повторялось, а потом приезжал Кузьма Степанович на своем резвом рыжем жеребчике, сердито спрашивал: «Че, стоит машина?» — и триер тут же увозили на бригадный двор. Я чуть не плакал от обиды и оттого, что бессилен что-либо изменить; главное, жаловаться, я чувствовал, было не на кого, потому что внешне все как будто соблюдалось, триер давали, людей выделяли, а то, что женщины никак не могли собраться, чтобы начать работу, так это, во-первых, всех не обвинишь, а во-вторых, на такое обвинение наверняка сказали бы (да так оно затем и вышло): «Не умеете работать с людьми!» Произнес эту фразу Федор Федорович, когда я, доведенный почти до отчаяния, — шутка ли, ведь могла сорваться посевная, я же понимал это! — решился все же пойти в Чигирево к нему.
Было это в первых числах марта.
Еще как будто стояла зима, и все вокруг, казалось, дремало, заметенное долгими февральскими вьюгами, но вместе с тем снег уже не слепил глаза своей яркой белизною, как зимой, а поосел, подтаял в лучах набиравшего силу солнца, и все во дворах, на огородах, на речке и дальше за речкою, на взгорьях, все покрылось еле заметною, будто прижался к земле развеянный ветром дым, пеленою. Серым казался снег и на крышах, и сбросившие синий морозный иней жердевые ограды теперь ясными черными полосами спускались к прибрежным и тоже заметно почерневшим кустам тальника. Поосели, подрезались стожки во дворах, возле коровников, и это тоже было признаком приближавшейся весны. Да и ветер теперь все чаще дул с юга, принося тепло и отдаленное дыхание где-то лопающихся почек, и чувствовать это наступление весны, несмотря на заботы и неурядицы жизни, всегда бывает приятно; обновляется природа, и сам ты тоже будто обновляешься — и мыслью, и душой, и, что самое важное, как оживают семена в земле, оживают в тебе надежды на лучшее и радостное будущее. Не совсем, может быть, в таком настроении, но все же именно с надеждою на лучшее будущее отправился я в то мартовское утро в Чигирево. Я говорю «отправился», да, пошел пешком, потому что Кузьма Степанович все равно не дал бы подводу, а просить, унижаться мне, откровенно, не хотелось; я даже задами обошел моштаковское подворье, чтобы не встретиться вдруг с Кузьмой Степановичем; да и видеть старого Моштакова не было никакого желания. Он обычно стоял в открытых воротах своей огромной, примыкавшей к избе бревенчатой конюшни, когда я теперь проходил по улице, и в это утро мне особенно не хотелось ощущать на себе его прищуренный, как будто старчески равнодушный, спокойный, но на самом деле полный холодной ненависти взгляд; я по-прежнему чувствовал мир его мыслей, злой и понятный до самых незначительных мелочей, мне казалось, что даже вокруг двора его все было как бы пропитано моштаковским миром, как я называл теперь все, что связывалось у меня с мужичками — «мучное брюшко», и в это мартовское утро, повторяю, как никогда прежде, не хотелось даже вот так, взглядом, что ли, прикасаться к нему; опять лари, опять вся оскорбительная история, воспоминания о которой могли оставить лишь пустоту и боль на душе, тогда как мне было, в общем-то, не до ларей и не воспоминаний: близилась посевная, а семена еще не очищены, не протравлены и не проверены на всхожесть. «Может быть, не к Федору Федоровичу, а прямо к председателю колхоза», — сам себе говорил я, подымаясь по взгорью к дороге и стараясь не думать о Моштакове. Я не хотел оборачиваться, но, оказавшись на вершине, все же остановился и посмотрел на деревню; и не хотел выделять среди других изб моштаковскую, но и длинная конюшня, и тесовая крыша избы, и все подворье с огородом и банькой, что стояла, приткнувшись на задах, почти у самой еще скованной льдом реки, — все это я как будто увидел прежде, чем остальные избы Долгушина. Моштаковское подворье как бы всколыхнуло в памяти все пережитое здесь за долгие месяцы со дня приезда, и, может быть, как раз тогда, в те минуты, когда, стоя на укатанной полозьями и местами подтаявшей с вечера и заледеневшей теперь, поутру, санной колее, смотрел на дорогие избы Долгушина, впервые с тревогою почувствовал, что между мною и той радостью труда и жизни, какую я познал, объезжая и обходя в дождливые осенние дни черные вспаханные Долгушинские взгорья, будто ложилась глубокая и неодолимая пропасть; в то время как я находился по эту сторону пропасти, те осенние дни, что наполняли жизнь радостью и счастьем, как бы отрезались от меня даже не пропастью, а мрачным моштаковским миром, и, главное, что я будто ничего не мог сделать, чтобы убрать с дороги этот ненавистный и злой моштаковский мир. Знаете, как беспокоит иногда нехорошее предчувствие человека и он становится угрюмым, настороженным, неразговорчивым, хотя и причин-то пока для этого никаких, вот такое предчувствие чего-то нехорошего, что должно было будто изменить мою жизнь, тревожило и угнетало меня всю дорогу, пока я шел в Чигирево. Я полагал тогда, что настроение это оттого, что мне не хотелось, в сущности-то, встречаться с Федором Федоровичем. После памятного декабрьского вечера, когда в метельную морозную ночь я ушел от него и затем, греясь, сидел возле печи в незнакомой избе, я так и не видел Федора Федоровича (он не приезжал в Долгушино, только присылал письменные распоряжения, я же не появлялся в Чигиреве); я не мог простить ему того, что он рассказал о ларях Андрею Николаевичу, и по-прежнему был убежден, что он был заодно со всеми («Не с Моштаковым, так с Андреем Николаевичем непременно», — рассуждал я) и что, конечно же, ни о каком, так сказать, примирении не могло быть и речи, и я бы ни за что, если бы не надвигавшаяся посевная, не позволил бы себе переступить порог дома Федора Федоровича.