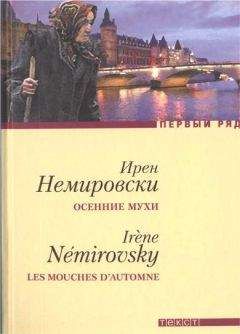Георгий Халилецкий - Осенние дожди
— Велика ли у нас разница. Года четыре, не больше?
— Да нет, пожалуй, побольше.
— А все равно! Война — на всех одна, послевоенные заботы — поровну. Не удивительно, что седеем.
— Чаю хочешь?
— Не откажусь, я ведь с дороги. Умылся, малость вздремнул, и к тебе.
— Сделаем! — Руденко энергично потирает ладони, идет в приемную. Возвращается через минуту.— Сейчас Зина сообразит.
— Гляжу, у вас культура,— добродушно насмешничаю я.
Руденко кивает:
— Спрашиваешь. Это ведь не палатки, теперь тут все более или менее по-людски.— И садится возле меня.— Да что это мы о чепухе? Рассказывай-ка лучше: где был, чем жил?
— Где был... По всей стране мотался, из конца в конец, моя профессия такая. Вот новую пьесу написал. Слыхал, поди?
— Не только слыхал, видал.— Он добродушно улыбается.— Как это у вас, у театралов, говорят: смотрибельно. Я вот одного только не пойму: почему вы, писатели, иной раз боитесь рассказывать правду о нашем времени?
— Здрасте! Похвалил, называется.
Знакомым коротким жестом он приглаживает ежик волос:
— Да откуда ты взял, что я собирался тебя хвалить. Пьесу видел. Понравилась. Одно только показалось обидным: сложнейшие инженерные конфликты на этом производстве. Не просто конвейерную линию надо было переделывать — людскую психологию ломать, я так понимаю. Она приучена к иному режиму работ, к иным требованиям. Этот конвейер, как я понял,— символ вчерашнего дня. Правильно?
— Вообще-то, да. Хотя, признаться, сам я как-то над этим не задумывался.
— Думал ты, как не думал. Иначе не написал бы... А что по пьесе получается? Стоило появиться новому главному инженеру — и раз, два — все по-новому. Это психология-то по-новому? Подумай! Да такие перемены — всегда сложнейшее и мучительнейшее дело! Тут уж ты мне поверь, я это лучше знаю.
— Верю. Но при чем здесь писательская правда или полуправда?
— А при том! — Руденко начал заметно горячиться.— При том, что изменения в жизни с инженерных позиций и увидеть и описать в тысячу раз проще, чем с позиций души, с человеческих, так сказать... А там, в этой душевной сфере, чего только еще не раскопаешь! И зависть. И боязнь нового. И подсиживание. И трусливое безразличие к ошибкам товарища... Вот бы тут вашему брату и ополчиться. Так нет же! Боитесь, как бы кто-нибудь в чем-нибудь не упрекнул потом.
— Как пишут в прессе, беседа протекала в обстановке дружеского взаимопонимания.
— Ну тебя,— отмахнулся Руденко. И внезапно рассмеялся: — Ты, Кирьяныч, и впрямь не обидься, чего доброго. Меня, знаешь, иной раз занесет — самому потом неловко.
— Вот эту бы черту партийного руководителя тоже неплохо запечатлеть? — я стрельнул в его сторону взглядом.
— А что? Может, и эту,— серьезно подтвердил он.
Но тут вошла девушка и принесла стаканы в подстаканниках и новенький хромированный чайник.
— Видал? — чуть насмешливо сказал Руденко.— Как в лучших домах.
И вот мы, точно так же, как когда-то вечерами в палатке, где пахло травами, нагретой за день землей и недальним лесом,— сидим и чаевничаем. И разговор наш медленными волнами то набегает на невидимый берег, то откатывается от него.
— Мне ведь звонили, что ты приедешь,— рассказывает Руденко.— Говорят, создайте ему условия. Только я не сразу понял, о ком речь. А когда сообразил: батюшки мои, так это же Кирьяныч! — думаю: ну да, такому создашь!
— Что стройка? — перебиваю я.
— Стройка? Строится. — Он как-то устало поводит взглядом в сторону окна.— Вот походишь, сам приглядишься. Не так, конечно, как хотелось бы, не тот темп, но кое-что за это время мы все-таки успели.
Нас прерывает телефонный звонок.
— Да, Руденко.— Он плечом прижимает трубку к уху, глазом косит в мою сторону, лезет в ящик стола.— Слушай, Иван Степанович,— говорит нетерпеливо.— Я же тебе десять раз объяснял: дела у тебя и не будут ладиться до тех пор, пока на самые рискованные участки вы не поставите коммунистов. Это же азбука партийной работы! — Он слушает минуту-другую, потом все так же нетерпеливо обрывает: — Да что ты меня убеждаешь? Я что: первый день на свете живу?.. Вас там двенадцать коммунистов, разве это мало? А легкой жизни ты им не устраивай, это я тебе по-дружески советую. А с тебя самого, это ты тоже, братец мой, поимей в виду,— вдвойне взыщется. И за срыв в обеспечении раствором, и за то, что не хочешь прислушиваться к советам парткома... Ладно, все, все. Не будем устраивать дискуссий. Извини, старина, мне сейчас некогда — важный гость сидит. Кто, кто?.. Узнаешь в свое время...— Усмехнулся.— Вот в комедию угодишь — не проси пощады. Бывай.
Он кладет трубку на место, качает головой:
— Веришь, как в том детском стишке: «И такая дребедень целый день». Я ж ему, дурню, сто раз толковал... Слушай, будешь знакомиться со стройкой, загляни, пожалуйста, к ним, на растворный участок. Там Воробьев Иван Степанович. Неплохой мужик, я его по Иркутской ГЭС помню. Только вот сейчас, когда программа увеличилась, малость подрастерялся... А ведь вот так, по-человечески, я его понимаю.
— Понимаешь, а ругаешь.
Руденко рассмеялся:
— Да ругать-то мы все мастера, этому нас учить не нужно. А ему сейчас, по-моему, больше всего ободряющее слово требуется.
Он и прежде таким был, этот Руденко: отчистит, бывало, какого-нибудь бригадира, слушать страшно. А через минуту его же спрашивает: «Тебе, может, в город надо съездить, жинку навестить? Скажи, не стесняйся».
Чай наш так и остался недопитым. То и дело приходили люди: с одними Руденко толковал, как организовать семинар агитаторов, другому объяснял порядок постановки на партийный учет. Каждый раз при появлении посетителя он говорил мне виновато: «Ты прости, пожалуйста, Кирьяныч»,— вставал; и каждый раз — я наблюдал это с любопытством — выражение его лица тут же делалось иным, в зависимости от того, кто пришел и о чем разговор. То холодно вежливым, то добродушным, то нетерпеливо раздраженным. Казалось, лицо его жило своей особой жизнью, и она, эта жизнь, опережала все происходящее.
— Ладно, пойду,— сказал я.— Вижу, и тебе мешаю, да и у самого еще куча дел.
— Ну иди,— согласился Руденко.— Только ты вот что: в ближайший вечер, поимей в виду, к нам домой на пельмени, милости просим. Тоня не простит, если узнает, что ты здесь, а я тебя не пригласил.
— Приду. С удовольствием приду. Кланяйся ей.
— Будет сделано.— Руденко протянул свою огромную руку. Выглянул в окно, сказал огорченно: — А дождь все льет, окаянный!..
5
Он льет по-прежнему, даже, кажется, еще сильнее, и я промокаю насквозь в первые же минуты. Ладно, не впервой. Как это Катерина любит говорить: «Ты, по-моему, рожден для происшествий...» Я шагаю без разбора — лужи так лужи, грязь так грязь, и мне отчего-то весело, легко и хорошо. Все-таки славный мужик этот Руденко.
В бараке Борис оглядывает меня сочувственно, покачивает головою:
— Надо же! Переодевайтесь в сухое.
— Именно этим я сейчас и займусь.
И тут возвращается Лукин. С порога, отряхиваясь, так что брызги во все стороны, произносит весело и нараспев, будто это ему сплошное удовольствие:
— Дае-е-ет!.. А Серега до сих пор не вернулся?
— Кантуется у Сычихи,— отзывается Борис.— Опять небось пивные бочки катает... Что в конторе?
— В конторе? — вопросом на вопрос отзывается бригадир.— Прораб — зеленый от злости. Руденко ему обещал выговор по партийной линии за срыв графика. А дождь от этого все равно не перестанет.
Он снимает плащ, встряхивает.
— Легче,— ворчит Алексей.
— Не сахарный. Борьк, приспособь посушить.
— А зачем? — шутит Борис.— Все равно мокнуть.— Но плащ берет и раскидывает его на спинках двух стульев. От влажного брезента идет резкий запах.
— Может, все-таки попробовать? — вдруг говорит Борис.— А, бригадир?
— Э, пустое,— Лукин усмехается невесело.— Ты выйди, копни у барака. Для интереса. Полштыка — пуд. Глина ж!
— А у Маркела не глина?
— Сравнил! У него еще слово божье,— насмешливо замечает Алексей.— Полвеса как не бывало. А мы ате-ис-ты.
— Атеисты,— подтверждает Лукин. И тут же возвращается к прежней своей мысли: — Сейчас копать — гиблое дело. Траншею тут же зальет. Наверстаем, когда распогодится.
Обращается он почему-то ко мне:
— И ведь что интересно. Осень, по всем приметам, обещала быть сухой. Тенетник — это же каждый знает — на вёдро. А его сколько в тайге было! И журавли летели высоко, с «разговором». И рябины уродилось мало. Все против дождей, это веками проверено. А гляди, что вышло?
Борис говорит:
— Слушай, бригадир. А вот на фронте, в дождь... Неужто не окапывались?
— Под зонтиками сидели,— отшучивается Лукин.— Наконец-то,— это он говорит появившемуся Сергею.
Тот стоит в дверном проеме, мотая головой; по капюшону стекает вода.