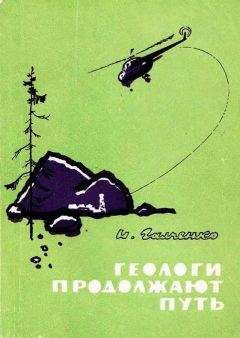Виталий Сёмин - Сто двадцать километров до железной дороги
По гимнастике у нее первый разряд. Почти «мастер». Я спросил:
— По художественной или по спортивной?
Она пожала плечами так же, как пожал бы я, если бы у меня какой-нибудь пижон спросил, не занимаюсь ли я художественной гимнастикой.
— Спортивной.
— А теперь потеряла форму?
Она согласилась спокойно:
— Потеряла.
Было когда-то время — занималась гимнастикой, а теперь времени нет — деквалифицировалась.
Оказалось, мы бывали в одних и тех же спортивных залах, раза три могли встретиться на соревнованиях, у нас оказалось даже много общих знакомых — спортсменов и неспортсменов. Правда, не все из них одинаково симпатичны ей. «Морально разложившийся человек», — сурово сказала она об одном из них. Я насторожился:
— Почему?
Ее миловидное, решительное лицо отвердело, она пожала плечами:
— Не интересовалась.
Я возмутился: не интересовалась, а так говорит о человеке. Ее лицо еще более отвердело и прояснилось, она осадила меня: было решение комсомольского бюро, им его зачитали.
Тогда я бросился в бой. Я сказал, что нет ничего опаснее людей, у которых за плечами школа, институт и опять школа, людей, которые жизнь проходили по учебнику, а теперь других учат по этому же учебнику. Атмосфера, создаваемая этими людьми в учительской…
Тут она меня спросила:
— А почему вы идете работать учителем?
И еще она меня спросила:
— А чего вы, собственно, хотите?
— Чтобы невозможен был такой зал, который не взрывается при первой же фразе такого Сокольцова.
Она сказала, что Сокольцов, хотя и малограмотен, человек вовсе неплохой, с заслугами в прошлом.
— Вот-вот, — сказал я, — Сокольцов неплохой, а мы тут все плохие.
Больше мы с ней не разговаривали, долго сидели молча. Потом она поискала, куда бы отсесть от меня, и отсела. Я смотрел ей вслед и почему-то думал о том, что у нее самая симпатичная в этом зале шляпка — этакая асимметричная соломенная завитушка.
Мы встретились еще раз на учительском вечере. Было несколько хороших номеров художественной самодеятельности. На сцену выходили прямо из зала. Спев или сплясав, кричали со сцены в зал: «А вы, Михаил Федорович, почему прячетесь?! На сцену! На сцену!» Михаила Федоровича выталкивали в проход между стульями, он упирался, а потом, махнув рукой, решительно шел к сцене.
Вышел на сцену и Сокольцов. Должно быть, он всегда появлялся на сцене на таких вечерах, потому что по залу прошел шумок: «Русскую плясать будет». Танцевал Сокольцов куда лучше, чем говорил: полсцены прошел вприсядку, сразу же вспотел, но не сдался — долго выделывал ногами что-то веселое.
Я посмотрел на Зину (ее зовут Зина). Она ответила мне профессионально ледяным взглядом (так она, наверно, на уроке осаживает нерадивых учеников) и зааплодировала Сокольцову: тебе, мол, снобу, не нравится, как веселятся простые люди, а мне нравится.
Глава четвертая
1
Честное слово, до сих пор при слове «деревня» я представлял себе что-то единообразное. Между тем для жителей районного центра мы, хуторяне, — провинция. Но и у нас, хуторян, есть своя провинция, откуда мы кажемся столичными жителями: бригады и фермы — скопления двух-трех домишек, затерянных в степи. Именно затерянных. В степи можно затеряться, и это не так уж безопасно, хотя волков здесь давно нет.
— После гражданской их тут много було, — говорит дед Гришка, — чабаны побили. Много чабанами побито. Последних двох я бачив он на тим бугре, — показывает хозяин на вершину холма, у подножия которого стоит наша хата. — Побиг у хату, крикнул бате. Батя з трехлинейкой и выскочил…
И дед замолкает. Он часто так на полуслове замолкает. Считает свой рассказ завершенным, хотя я еще ничего не понял. Если я спрошу, что же дальше, он усмехнется — чего ж тут непонятного! Его усмешка не безобидна: «Могу рассказать, но умный человек и так бы понял».
— Убил волков?
— Батя? Не-ет, — дед усмехается, — Не-ет, не попал.
И я чувствую, что и сейчас, почти через тридцать пять лет, ему почему-то приятен промах отца. Об отце дед почти никогда не говорит, но когда хозяйка говорит при нем об отце, дед молча улыбается вот такой иронической усмешечкой.
Они соседи — дед Гришка и его отец дед Степан — двор в двор, огород в огород, хата рядом с хатой. Но за два месяца я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из двух семей переступил осыпавшуюся канавку, которая разделяла два огорода. Однажды я невольно подсмотрел, как дед Гришка и дед Степан столкнулись на дороге. Дед Степан ехал на колхозной бедарке — он бригадир огородно-садоводческой бригады, ему положена лошадь, — а дед Гришка со своей матерчатой кошелкой в руках двигался ему навстречу. Поравнявшись с отцом, дед Гришка слегка кивнул, но не замедлил шага. Так и прошагал, не оборачиваясь, до самой хаты, у ворот которой сидел я, вошел во двор и сказал хозяйке:
— Бачила?
— Бачила, — кивнула она.
В конце сентября над хутором разразился ливень. Вода заструилась по трещинам рассохшейся и каменно затвердевшей земли, склеила эти трещины, пропитала почерневшую, набухшую спину рыжего пологого холма и, толкая перед собой комочки земли, двинулась вниз по канавкам, которых я до сих пор не замечал на гладком склоне. Из окна я увидел деда Степана. Он вышел под дождь босиком, крупная лысая голова его была не покрыта. Неторопливо двигаясь, он что-то копал перед хатой. «Отводит воду, чтобы дом не подмыло», — подумал я и спросил хозяина:
— Чего он?
Дед усмехнулся, промолчал. Ответила хозяйка:
— Жадный вин, Андрий. Дождя ему мало. Всю воду собрать хочет.
Я не понял, и хозяин сам без моей просьбы пояснил:
— Хочет, чтобы, все, значит, по науке. На огород себе отводит воду. Землю насыщает аж на тот год.
— Он, Андрий, и снег зимой собирать будет, — сказала хозяйка. — Он такой!
Дождь продолжал лить, и хозяин, потоптавшись немного в хате, тоже вдруг заспешил, вышел с лопатой на улицу и через минуту прорубал канавку к себе во двор.
Я уже не думаю о своем хозяине с тем почтительным удивлением («Простой человек, а гляди ж ты, какой умный!»), с каким думал о нем вначале. Я его не перестал уважать, но все же приглядываюсь к нему с некоторой настороженностью. Недели через две после того, как я остановился у них на квартире, дед Гришка мертвецки напился. Дружки, с которыми он пил, дотащили его почти до самой хаты, но в самую хату войти побоялись, и дед Гришка пытался преодолеть последние два десятка метров сам. Еще до того, как из хаты вышла хозяйка, он начал кричать, напрасно стараясь придать своему голосу грозную раскатистость:
— Хто здесь хозяин?! Что хочу!..
Хозяйка не испугалась, не удивилась и не смутилась. Она подхватила его сзади под руки, больно пинала в спину, а он бессмысленно взмахивал руками, мешал ей, кричал:
— Хата чья! Хто ее робыв?!
Заснул он в летнике, сидя на кровати, навалившись грудью на стол.
— Вот, Андрий, — скорбно сказала мне хозяйка, — когда мы тебя брали на квартиру, я и думала, чи брать, чи не брать. Визьмешь чужого человика, а тут такэ! Да и ты, сказали, добре водку пьешь. С Иваном Антоновичем. Думала, сойдетесь вдвох с моим хозяином… Вин же все гроши пропье, если ты будешь ему давать. Николы ему не давай. Перевстрене на дорози, а ты не давай. Я от него и сундук з вещами сына замыкаю. Як глаза залье, ему шо дитске, шо не дитске…
Дед давно заснул, а она все не могла успокоиться. Кляла «ту прокляту водку»:
— И когда она у тебя там все перепале! — И жаловалась мне: — Вин и так все себе внутри перепалив, я ночью николы на двир не встаю, а вин мабудь три раза.
Хозяйка не старалась сделать для меня «хорошее лицо». Она просто «завелась». А что я подумаю и захочу ли сменить квартиру, ей, кажется, было все равно.
И деду было все равно. Я думал, что проснется он поздно, будет долго лежать разбитый, а он встал, как всегда, на рассвете. Я застал его в сарае, где он строгал рубанком длинную доску. Я поздоровался, он не сразу повернулся ко мне.
— А ты, Андрий, не по-городскому встаешь, по-сельскому. Рано…
Усмешка его ничего не потеряла после вчерашнего. Она была такая же ироническая, такая же чуть-чуть обидная для меня — сверху вниз. И еще было в ней затаенное смущение, как будто мой хозяин постоянно помнил, что в хуторе его кличут уж слишком запросто: «Дед Гришка», самолюбиво не принимал такой простоты, но был слишком умен, чтобы протестовать открыто. И так же, как всегда, подчеркивал прямизну и жесткость дедовских плечей тот самый старый, мягкий пиджак, в котором он вчера валялся на земле, а потом спал, навалившись на стол. И так же джентльменски сухопарой выглядела вся его сухая, жилистая фигура. И так же размеренно двигался он своим ровным, широким шагом по двору, чистил коровник, носил воду овцам, и тем же широким, ровным шагом, которым он будто бы давным-давно все измерил — и работу в колхозе, и работу дома, — он ушел в свою плотницкую мастерскую. Я смотрел, как он аккуратно прикрывал за собой калитку, как шел мимо оплывшего глиняного забора, мимо такой же оплывшей, округлившейся после многочисленных подмазок собственной хаты, и мне неожиданно пришло в голову, что мой хозяин не может обижаться на «деда Гришку», потому что в хуторе полно его сверстников, от них это и идет, все они друг друга знают с самых малых лет. Хотя никто не зовет деда Степана дедом Степкой…