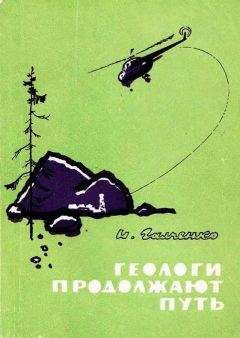Виталий Сёмин - Сто двадцать километров до железной дороги
— А как же два твоих товарища?
Мнется, но не то чтобы очень. Ждет, когда я отвяжусь. И ведь не то плохо, что собак испугался, а то, что повернул он прямо домой, не побоялся сразу же вернуться к матери и бабке и сказать им, что не пошел на экзамен. И те не заволновались, не отправились его провожать. Не был на экзамене — и ладно. Как-нибудь потом…
Или еще… Пришел ко мне прямо на экзамены — ни на одной консультации не был — Пивоваров, сын ветфельдшера. В ответ на мое «здравствуйте» символически приподнялся над партой.
— Стань как следует.
Стал.
— Почему не был на консультациях?
Молчит. Но совсем не так, как Парахин. Молчит вызывающе: «А что мне твои консультации?!»
Лицо у парня умное. Я бы сказал, интеллигентное. Кстати, у многих моих «осенников» лица оказались интеллигентными, одухотворенными, живыми, освещенными лукавством и любопытством. Вообще, мне кажется, у всех детей лица интеллигентные. Различия появляются потом.
Пивоваров плотный, невысокий, в длинном старом пиджаке. Хочет быть солидным и не менее взрослым, чем я. Но вот я не посчитался с этим и заставил его подняться над партой. И за это он меня презирает. Разве станет порядочный человек унижать другого человека?
Я уже знал, что Пивоваров — один из лучших учеников, книгочей, перечитал все книги в школьной библиотеке, что переэкзаменовка у него по болезни и догадывался, что ему не хотелось «смешиваться» с кандидатами во второгодники… Писал на экзамене он изложение, закончил первым, положил на стол полтора листа исписанной бумаги — в два раза меньше нормы — и ушел. Я прочитал — ум у парня цепкий, логика безупречная, а грамматические ошибки есть… Даже лучшие ученики у меня пишут с грубыми ошибками.
…Доклад на конференции делает заведующий районо Сокольцов. Широкоплечий, квадратный, как кафедра, за которой он расположился, сильный мужик, сорок минут жует полный набор газетных штампов, и я никак не могу их связать с тем, что я уже делал и что мне предстоит делать. И не только я один не могу связать — в зале шумно. Из президиума несколько раз просили товарищей пересесть поближе — первые рядов десять пустуют. Но никто из глубины зала не откликнулся, хотя народ здесь собрался дисциплинированный. Даже слишком дисциплинированный. Люди с осуждением провожают глазами тех, кто на цыпочках проходит к выходу. Впрочем, таких немного. Трудно все-таки у всех на глазах (осуждающих!) подняться и выйти на улицу. Да и куда пойдешь?! Прямо перед клубом просохшая и прокаленная до самого центра земли площадь с пыльным, бестеневым, низкорослым сквером. В таком сквере по-настоящему и чувствуешь, какая стоит жара. А сквер пройдешь, упрешься в запертую — она откроется в четыре часа — «чайную». Повернешь от «чайной» назад — опять упрешься в клуб, где идет конференция. Правда, рядом с клубом и «чайной» есть магазины, но и они сейчас закрыты.
Иногда в зале смеются — это докладчик оторвался от писаного текста и произнес что-то на свой страх и риск. Докладчик явно малограмотен («будуть ходить», «будуть писать…»), и в зале замечают его ошибки…
— Минуту! — вдруг останавливает Сокольцова человек в светлом чесучовом пиджаке, сидящий в президиуме. — Товарищи, я не вижу, чтобы у кого-нибудь в руках были тетрадка, бумага, карандаш! Товарищ Сокольцов, ваш непосредственный руководитель, говорит о важнейших, узловых вопросах воспитания, а никому из сидящих в зале не приходит в голову записать эти важнейшие вещи! Может быть, вы все знаете, и районное руководство напрасно собирает вас на конференцию?
— Они учёни! Чему их можно навчить?! — рассерженно отзывается Сокольцов. — Но мы с них спросим!
Тут я неожиданно для самого себя поднимаюсь, вежливо, как ученик на уроке, протягиваю руку:
— Можно вопрос? Вот вы, товарищ в чесучовом пиджаке, да-да — вы! Скажите, как надо писать глагол третьего лица «будут»? С мягким или без мягкого знака на конце?
2
На свою первую учительскую конференцию в районный центр я ехал вместе с дочкой деда Гришки, Валентиной, а вез нас ее муж, колхозный шофер Семен. Они заехали за мной на двухтонке, для этого им пришлось сделать почти километровый крюк,переезжать через старую греблю на краю хутора. Первый раз в жизни мне к дому «подали» машину, и я очень смутился. Наверно, и Семен был очень смущен, слишком уж лихо рванул с места грузовик, слишком трясло нас на ухабах и кидало на поворотах. Все трое мы сидели в двухместной кабине, тесно прижавшись друг к другу, — я хотел залезть в кузов, но меня туда гостеприимно не пустили — и напропалую острили. То есть, острил я, Семен иногда вставлял «а то!» или презрительно кривил губу, что одновременно означало и «спрашиваешь!» и «знаем! не лыком шиты!» Несомненно, как и все шоферы, Семен был на сто процентов бывалым парнем, но сейчас перед горожанином он хотел казаться бывалым на все двести. И это не позволяло нам разговориться. К тому же Семен был занят: вел машину. Валентина сидела между нами, ей было и теснее и жарче, чем нам, но она охотно смеялась и тогда, когда я острил смешно, и когда я говорил глупости, и тогда, когда нас попросту подбрасывало под потолок кабины — всю дорогу Семен заставлял нас сидеть, нагнув головы. Так мы и ехали: я считал своим долгом острить, а Валентина — смеяться. Впрочем, она смеялась не только из вежливости. Семен — это была первая распространенная фраза, которую он произнес, — так определил причины ее веселости:
— Вот баба! На три дня отрывается от дома, от дитя, от хозяйства… и рада!
Он не шутил. Он обращался за сочувствием. И я скис.
— А чего ж, — вялосказал я, — человеку погулять хочется.
— Ага-ага! — злорадно подхватил Семен. — Баба! Ей бы только погулять!
«Тонкостей» Семен явно не понимал или уж слишком был поглощен своими мыслями, чтобы замечать мое настроение.
— А что ж? Только тебе гулять? — спросила Валентина и посмотрела на меня.
— Кто гуляет? — спросил Семен.
Вспыхнула перепалка, которую Валентина вначале стеснялась вести, — новый человек рядом, что подумает! — а Семен — нисколько. Я понял, что для него настоящий разговор только сейчас и начался. Он мне отвечал «а то!», презрительно кривил губу, многозначительно вздергивал брови, а сам думал, что он скажет, когда наконец можно будет высказать свое настоящее. Вообще-то хуторской шофер Семен не был уж очень своеобразен — я встречал супругов, которым позарез нужен третий человек, чтобы хорошенько поругаться. Сами, вдвоем, они уже не могут сдвинуться с накрепко занятых позиций.
В Ровном, однако, ссора затухла. Семен оставил нас на площади у клуба и поехал куда-то по делам, а мы отправились в клуб зарегистрироваться у секретаря.
Я взял Валентину под руку и почувствовал, какая у нее крепкая, сильная рука. И вся она была крепкая и сильная. И шагала она легко. Вот только чувствовалось, что ей непривычно, чтобы ее вели под руку: так далеко, на отлете, она держала локоть, так напрягала его. Когда мы подходили к клубу, она смущенно освободилась от моей руки и пояснила: «У нас так не ходят».
В клубе к Валентине вернулось хорошее настроение. Она здоровалась с учителями — все были ей знакомы, — спрашивала, как они провели отпуск, — сама она из хутора никуда не выезжала, — заходила в магазины. В магазинах опять находила знакомых…
На конференции Валентина сидела возбужденная, довольная тем, что сидит здесь, в прохладной полутемноте, что сидит в кресле с откидным сиденьем и что Сокольцов, заведующий роно, читает для нее такой большой, такой умный доклад. Она улыбалась, когда я передразнивал ошибки Сокольцова, но улыбалась вежливо, только чтобы не обидеть меня. Когда тип в чесучовом пиджаке спросил, почему учителя не конспектируют доклад, она засуетилась, покраснела — у нее не было с собой ни тетрадки, ни карандаша. Она не поняла моего раздражения, хотя и не осудила меня. Наверно, решила, что я просто озорничаю.
А что я делал? Конечно, озорничал. Я подстерег чесучовый пиджак — фамилия типа Мясницкий, он инструктор райкома — в тесных дверях и нарочно столкнулся с ним.
— Почему ходите, не глядя перед собой? — спросил я.
— Что такое? — изумился он и обошел меня.
А вообще я боюсь таких типов, которым ничего не стоит оскорбить целый зал.
3
На конференции я познакомился и поругался — сразу же! — со своей землячкой, учительницей литературы ровненской десятилетки. Меня выгнали из института в пятьдесят третьем, а она годом раньше окончила университет и с тех пор преподает в Ровном. Она спортсменка, в университете занималась гимнастикой (мне нравятся спортсменки — их не удивишь: «Вот какой я сильный!»), неплохо сложена, миловидна, с этаким решительным комсомольским курносым лицом, на котором, кроме решительности, уже успело отложиться что-то профессиональное, я бы сказал, «суровая благочестивость», если бы слово «благочестивость» тут было уместно, что-то уж слишком ясное и твердое.