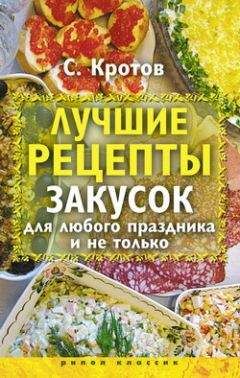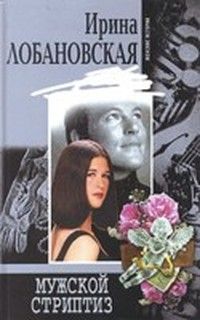Юозас Пожера - Рыбы не знают своих детей
Скажи мне, приятель, что за прихоть судьбы свела нас в этой избушке? Ты-то в этих местах рожден, здесь жили твои предки, а я появился на свет божий за тысячи миль отсюда, но ворвался, вторгся в твои владения, занял столько места, сколько хватило бы на все твое обширное племя… Ведь это величайшая несправедливость, гнусное преступление, а ты почему-то миришься с ним. В чем дело? Уж не в том ли, что малый и младший всегда найдет куда уйти, уступая наглости большого и старшего, не желая путаться у того под ногами, — ведь лучше выжить пусть в самом жалком уголке, нежели оказаться раздавленным. А малому и мало надо… Ты не сердись, приятель, что я нагрянул сюда. Не так уж я велик и грозен, как тебе кажется. Есть и поболее меня, как есть и мельче тебя. А ведь мы с тобой — дети одной матери, как говорит мой и твой друг Юлюс. И поверь — заботы у нас с тобой тоже сходные: сберечь свою шкуру, сберечь шкуру жены, сберечь шкурки своих деточек. Ведь так? А может, у тебя не одна жена, а несколько? Даже целый гарем, а? Тогда твои заботы куда сложней моих. Лучше давай не будем об этом, ведь ни ты мне, ни я тебе помочь не в силах. Спасибо, что пришел, что не торопишься в свое убежище. Ах ты, белый мой горностай с черным кончиком хвоста! Каких только королей, каких королев не украшали твои сородичи, с каких плеч не ниспадали, в каких дворцах не мели пол, придерживаемые грациозными ручками… Будь здесь товарищ Юлюс Шеркшнас, заядлый враг цивилизации, он бы не назвал эти давно минувшие времена порою «крысиных бегов», а, пожалуй, назвал бы их «эпохой побелевших от счастья горностаев». Или еще как-нибудь выспренно и цветисто… Слава богу, он отсутствует, этот радетель человечества, которому не дождаться торжества возлюбленной истины, не порадоваться триумфу возглашаемых им ересей, ибо во все времена — прошедшие, настоящие, будущие, будущие в прошедшем — человеку гораздо лучше иметь, чем не иметь… Куда же ты, приятель? Я не обижу тебя. Чертовски замерз, понимаешь? Раскрыл рот только чтобы кашлянуть, а тебе уж кажется, что собираюсь тебя слопать… Куда ты пропал? А вдруг это уже галлюцинация? Может, не было вовсе никакого горностая?.. Вот и опять почудилось… Почудилось, будто фырчит моторка на реке. Явный бред — откуда здесь взяться моторке, если река спит под толщей льда? Не знаю, что испытывает человек, когда у него галлюцинации, понимает ли он сам, что все перед ним происходящее — лишь плод больного воображения? В состоянии ли он осознать это или искренне верит в то, что видит и слышит? И я громко, несколько раз кряду произнес: не может быть, не может быть… Но гул моторки все нарастал, он стремительно приближался и становился настолько мощным, что дрожали стены нашего домика, и вся тайга, все пространство до самого неба затрепетало, заходило ходуном. Я, как был полуголым, выскочил за дверь — в одних носках, не сунув ног в унты. Я не мог поверить своим глазам: из верховья реки, вздымая тучи снега, на меня мчался… самолет! Не катер, не моторка, а старенький биплан АН-2 скользил по самой середине реки на круто задранных лыжах, сотрясая пространство ревом мотора. Я ошеломленно стоял, не чувствуя мороза, и что-то бормотал себе под нос, пуще всего на свете боясь, что видение исчезнет и снова вокруг меня воцарится угрюмое безмолвие. Но рокот продолжался, оранжевый самолет все приближался, потом повернулся тупорылым концом ко мне, скользнул еще чуть ближе и стал у берега. Я боялся дохнуть, чтобы не спугнуть его, как белого горностая. Я ждал, что оранжевый самолет исчезнет, как сон, через миг не останется и следа этого чуда, и кончится весь этот бред. Тем временем мотор взревел предельно яростно и вдруг умолк, несколько раз чихнув. Я услышал, как хлопнула металлическая дверца, увидел, как из нее высунулся трап, как конец его погрузился в снег. Затем по трапу начали спускаться люди, и я наконец-то понял, что никакая это не галлюцинация, что все это — самая настоящая явь, и в тот же миг сердце сжалось от страха: случилась беда! «Что-нибудь с родными Юлюса — с Янгитой, Микисом? За Юлюсом прислали самолет». Эта мысль прямо-таки обожгла меня, ошпарила, но тут же схлынула, уступив место другой, куда более важной для меня: что бы ни случилось, самое главное — не упустить самолет, да, да, не упустить этот единственный шанс! Во что бы то ни стало удержать самолет — другой возможности не будет. Единственный шанс! И другого не будет. Не на что надеяться, не о чем мечтать. Вот он, единственный случай, нельзя не воспользоваться, никак нельзя, это было бы равно самоубийству, это было бы то же, что своими руками надеть себе петлю на шею да повеситься на первом суку… В это время из самолета вышли пятеро. Все остались возле ослепительной, как мечта, оранжевой машины, а один стал карабкаться на берег, прямо к нашему зимовью. Это был человек богатырского телосложения в дохе и шапке из росомахи, в огромных унтах из волчьих шкур и в гигантских меховых рукавицах, в каждой из которых могла бы свободно уместиться небольшая собака. Пыхтя и отдуваясь, скрипя по снегу, пилот добрел ко мне, окинул карими глазами с головы до ног и сказал:
— Замерзнешь, мил человек.
Лишь теперь я спохватился, что торчу на морозе в одних носках, на которые смотрит пилот и снисходительно улыбается. «Что случилось?» — спросил я, но он обнял меня за плечи сильной рукой и, точно ребенка, увел в зимовье. Я удивился, как такой великан пролез в тесную дверку, смотрел на его шапку, достающую до потолка, и снова спросил: «Какая беда пригнала?» Он улыбнулся: «Порыбачить приехали. Примешь ли на ночлег, а?» И, не ожидая расспросов, сообщил, что четвертую зиму подряд летает сюда на рыбалку, что в этой заводи всегда было полным-полно рыбы, что у них с собой утепленная палатка, но ставить ее они не будут, жаль время терять, если я пущу их ночевать в зимовье, а затем поинтересовался, какими судьбами очутился здесь я. Пришлось уточнить, что подлинный хозяин зимовья Юлюс Шеркшнас. Пилот радостно хлопнул себя по ляжкам — зазвенело стекло в оконце нашего жилища. Как же! Он прекрасно знает Юлия Миколаевича! Кто не слышал об этом знаменитом охотнике! Все слышали, все знают: замечательный человек, справедливый, храбрый, ну малость отшельник, любит тайгу. Дай ему бог здоровья… Вот, значит, где он построил свою новую охотничью сторожку! Знает, чертяка, где хорошие места, где рыбы круглый год не переводится. «Да вы не выловили всю? Поди, нам оставили хоть где-нибудь на отмели?» Я успокоил его, сообщив, что мы с Юлюсом последний раз рыбачили в начале зимы, а после того и не пробовали, что рыбы во впадинках должно быть вдоволь, если только она не ушла в глубину, спасаясь от мороза. Я старался говорить уверенно и спокойно, а сам был на седьмом небе от счастья. Разве это не судьба? Я вздохнул и произнес: «Сам бог послал вас мне». «В чем дело?» «Захворал», — ответил я. Но пилот лишь широко осклабился на мои слова и покровительственно похлопал широченной ладонью по плечу: «Лучше прямо скажи — заскучал в тайге, тянет ближе к ресторану, небось бесовских капель испить охота?» Я взял его за руку и подвел к нашей кладовой, и там показал запасы спирта — целых двенадцать бутылок. Этот аргумент подействовал. Пилот оглядел батарею поллитровок и сказал: «Прости, друг, теперь я вижу — дело серьезное, придется забрать тебя». Я поблагодарил, а он опять похлопал меня по плечу: «Не серчай, брат».
Никогда еще время не ползло так медленно, как в эти сутки. Казалось, завтрашний день и не наступит. Рыболовы долбили лед, вынимали из-под него ленков и хариусов, им даже посчастливилось поймать парочку тайменей, а я готовил им горячее: натушил целую кастрюлю сохатины, отварил привезенную ими картошку, состряпал уху из пойманной рыбы. Но все пятеро словно примерзли к реке. Никак не удавалось зазвать их в зимовье: рыба клевала бешено, только успевай забрасывать. Счастье, что день был коротким. Не день, а так, огрызок, но и он представлялся мне бесконечным. Я сидел в зимовье перед раскрытой печной дверцей, глядел, как пламя отплясывает свой колдовской танец, и вспоминал тот первый день, когда мы прибыли сюда и Юлюс выбирал место для зимовья. Он долго ходил среди лиственниц, опустив голову, глядел в землю, словно отыскивая какой-то утерянный предмет. Несколько раз обошел вокруг макушки холма, набрал валежника, развел костер в одном месте, потом в другом, третьем, пристально смотрел на пламя, словно беседовал с ним — ни дать ни взять шаман или древний жрец. Наконец он остановился у среднего костерка и произнес: «Зимовье будем рубить здесь, это самое лучшее место, самое счастливое». Я поинтересовался, чем оно лучше остальных и что шепнул ему огонь, однако ни ответа, ни объяснения не получил. Сегодня и я мог бы сказать, что место действительно счастливое. Разве может быть счастье больше этого оранжевого самолета, посланного сюда точно самим небом? Разве не чудо, что прилетел он именно сюда, к нашему зимовью — мало ли места в тайге! Спасибо тем добрым силам, с которыми шептался Юлюс… Гости вернулись в зимовье, когда уже стемнело. Они нарадоваться не могли богатейшему улову, который аккуратно погрузили в самолет. В зимовье они вынули из рюкзаков банки с консервированными огурцами и помидорами, термосы с кофе, настроение у всех было хоть куда, они шутили, старались перещеголять друг друга в остроумии, с наслаждением уплетали, картошины хватали руками, каждый, похоже, был готов наесться за троих. Пилот сообщил друзьям, что берет меня в поселок. Один из прибывших с сомнением спросил: «Как можно улетать, бросив в тайге одного Юлюса?» Я замялся, не зная, что ему ответить, но пилот выручил. Он кивнул в мою сторону и сердобольно вздохнул: «Болеет наш друг, болеет, к врачу ему надо… А Юлий Николаевич и один не пропадет. Старый таежный волк. Насколько мне известно, он почти всегда один и ходит в тайгу».