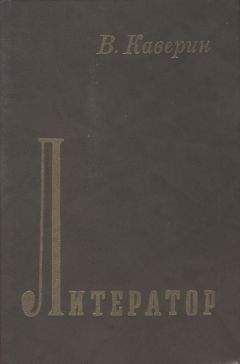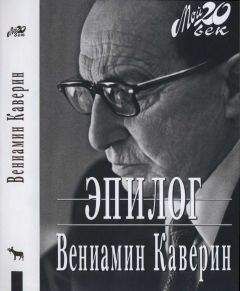Вениамин Каверин - Избранное
Прошло три недели, и смерть Бауэра так же вошла в сознание тех, кто его знал, как прежде входила его жизнь. Стипендия его имени была учреждена в университете. План сборника «С. И. Бауэру — Академия наук» уже обсуждался на заседаниях, а в перерывах обсуждались имена возможных кандидатов на освободившееся после покойного академика место. Еще мелькали в газетах известия о том, что Институту истории и философии в Москве присвоено его имя, о том, что Британская академия, доктором которой был Сергей Иваныч, прислала соболезнование, и т. д., но все реже…
По-прежнему, просыпаясь, Машенька вспоминала отца, и огромное расстояние между сном, когда этой мысли не было, и первым мгновением, когда она появлялась, по-прежнему ее поражало.
Она не поверила бы месяц назад, что будет жалеть обо всех заботах, беспокойстве, страхе за него, о мучительных ночах, когда он был уже приговорен, а все казалось, что, гложет быть, и не бесповоротно.
Она привела в порядок и прочитала его переписку и поняла то, о чем догадывалась и прежде: он был несчастен. Мать умерла, когда Машеньке было шесть лет, она еще помнила, как ее боялись. Вся желтая от лекарств, похожая на японца со своими черными толстыми волосами, она начинала кричать с утра, и прислуга-пьяница, единственная, которая могла у них жить, шла к ней, крестясь перед порогом.
Иногда на нее нападало молитвенное настроение: она молилась по целым дням, какие-то монашки ходили к ней, и от них в квартире оставался особенный запах, который все ненавидели, и больше всех отец.
Машенька нашла ее письма — жеманные, подписанные шифром, который мог бы разобрать пятилетний ребенок, с восклицательными знаками, с фальшивыми уменьшительными: «зайчишечка», «голубчичек».
Почему отец женился на ней?
И Машенька вспомнила, как потом, через два или три года, он всегда выходил, когда являлась Анжелика Ивановна, учительница музыки, и как он, бедный, говорил с ней, улыбаясь и молодея. Вот только и было! Хоть бы он женился на ней. Или хоть бы не женился, а так как-нибудь! Но Анжелика Ивановна уехала, и он перестал выходить на уроки музыки, которые давала теперь старая уродина Вагнер…
Тоска, которую Машенька прежде просто не понимала, замучила ее. У нее бессонница началась, — и самая страшная, когда считаешь счастьем, если удастся уснуть на четверть часа перед рассветом.
Она слышала, как возвращался к себе, держась за стены, Дмитрий, и начинала думать о нем. И он одинок и несчастен! Ему стыдно, вот почему он ни разу не подошел к ней. Он пьет. Он стыдится, что его не любит жена, что отец не пустил его к себе перед смертью. Это страшно, но ведь и он был страшно виноват перед отцом. И теперь виноват. По-прежнему он близок с Неворожиным, которого отец ненавидел. Он поручил ему все дела, и теперь этот человек ежедневно таскается к ним и часами сидит у отца в кабинете. Как это тяжело! Как противно! Дима говорит, что он составляет список всех папиных рукописей и книг! Неужели нельзя было поручить это кому-нибудь другому?..
Анна Филипповна кашляла в кухне, и Машенька начинала думать о ней. Бедная, она совсем растерялась! Уже никто давно не обедает дома, а она все еще накрывает на стол. По-прежнему она встает в пять часов утра, и слышно, как моет калоши, и, когда доходит до папиных, начинает кряхтеть и сморкаться. Может, быть, взять службу где-нибудь на периферии и увезти старуху с собой?..
Шорох ночных туфелек слышался в коридоре, и Машенька начинала думать о Варваре Николаевне. Ей казалось, что и Варвара Николаевна не спит по ночам. Большая, холодная, она лежит, накрывшись одной простыней, и ей страшно, что она никого не любит. Они больше не ссорились. Только раз, когда из столовой пропали две фигурки из слоновой кости, китайские шахматы, офицер с мечом и косою и конь, она возмутилась и сказала им дерзость — Варваре Николаевне и брату. Дмитрий накричал на нее и сам расстроился, но фигурки все-таки в тот же день вернулись на старое место. Это все пустяки, и, может быть, даже хорошо с его стороны, что он не стал из-за китайских шахмат ссориться с женою. Но он ссорился с ней. Было что-то тяжелое и нечистое в этих разговорах о деньгах, когда он, жалко улыбаясь, начинал смотреть в одну точку, а Варвара Николаевна умолкала, холодно поднимая брови.
Ночь шла медленными, большими шагами от одного до другого звона часов в столовой. Кисейные занавески начинали светлеть, и казалось, что за ними не окна, а поле — и никого, пустынно, только ветер посвистывает, снежок крутится и ложится. Она засыпала на четверть часа и просыпалась от сердцебиения…
Она так исхудала, что все висело на ней. Каждые два-три дня она ушивала платье. Если бы не Карташихин, она заболела бы от тоски.
8Каждый день в пятом часу он ждал ее у Технологического института. Они обедали где придется, а потом шли куда глаза глядят. Это было верное средство от тоски. Но едва ли оно помогло бы больной, если бы сам врач не принимал его в таких огромных дозах.
Они заходили так далеко, что казалось — это совсем и не Ленинград, эти замерзшие плоты с домишками, с кострами, перед которыми сидели в тулупах замерзшие бородачи. Гранитная набережная оставалась позади, берег был заостренный, плоский, рыбачьи сети висели на заборах или были обмотаны вокруг столбов открытого навеса. Здесь легко было догадаться чем когда-то был этот город. Земля, которую в Ленинграде можно видеть только в парках и скверах, здесь встречалась на каждом шагу. И везде были острова и каждая улица кончалась Большой или Малой Невкой!
Впрочем, Машенька утверждала, что Петроградская сторона — такая же сторона, как Выборгская, а вовсе не остров, и однажды, чтобы решить этот спор, они по набережным всех рек обогнули ее, забегая греться в пивные и дойдя до Института мозга (откуда начали путь) в двенадцатом часу ночи.
На Стрелке они были только раз, хотя Елагин, тогда еще заброшенный, был очень хорош зимой. Деревья стояли тихие, опустив к земле заваленные снегом черные лапы; горбатые мостики были белы от снега, и ясно, что они должны быть белые, а не черные, как летом; из сломанных беседок вылетали и с криками носились над огромным сине-серым заливом галки. Но Машенька не любила Елагин остров или разлюбила, как она сказала однажды.
Они не зашли в буддийский храм, хотя Карташихин, который никогда не был ни в одной церкви, очень уговаривал ее и даже приводил исторические примеры в пользу того, что Будда среди других богов и по своему времени был вполне порядочным человеком…
Он не рассказывал Машеньке, что каждый день начинался мыслью о ней. Между ними были стены, очень много, не меньше ста, черные дымоходы, водопроводные трубы, мебель, спящие, встающие, разговаривающие люди, и она жила за всем этим множеством людей и вещей, совершенно ненужных и только напрасно заслонявших ее от него.
Она жила под одной крышей с ним — это было удивительно. Но то, что она вообще жила на свете, было в тысячу раз удивительнее, и он даже чувствовал благодарность за это, хотя благодарить было, кажется, некого.
То, что стало с домом № 26/28 по улице Красных зорь, который превратился в груду железа и камней, находившихся между ними, скоро перешло и на весь город. Все маршруты вели к Машеньке, в Техноложку, где она слушала лекции, чертила и, может быть, иногда вспоминала о нем, потом в столовую, где она обедала, потом домой, если она отправлялась домой.
Был и еще один маршрут — воображаемый: когда, вдруг проснувшись, он мысленно проходил на цыпочках мимо комнаты Матвея Ионыча, спускался вниз, на темный холодный двор, и — направо под арку, на второй этаж, где сама собой открывалась дверь, на которой, обведенная черной рамкой, еще висела карточка Бауэра и где нужно было идти так тихо, чтобы только она услышала и проснулась…
Это было так же не похоже на любовь к Варваре Николаевне, как сама Варвара Николаевна была не похожа на Машеньку. О Варваре Николаевне он помнил только одно — что у него сердце билось и губы горели.
Они познакомились наконец, и Варвара Николаевна даже припомнила, как Трубачевский рассказывал о нем в прошлом году и как они однажды спасли ее от Дмитрия в садике подле мечети.
— Трубачевский все говорил, — сказала она, смеясь, — что у вас «железная воля».
Он слушал и смотрел ей прямо в глаза. Как случилось, что целый год он любил эту женщину? Она была красавица, он это ясно видел и теперь, когда смотрел на нее так же спокойно, как на трупы в анатомическом театре, — но что это была за профессиональная красота! В любой анкете Варвара Николаевна могла, кажется, на вопрос «профессия» ответить: «красавица», как другие написали бы «учительница» или «стенографистка»…
9Он познакомил Льва Иваныча с Машенькой и несколько дней занимался только тем, что рассказывал им друг о друге.
О Машеньке он рассказывал бессвязно и мало, о Льве Иваныче, напротив, очень подробно, так что иногда сам слушал себя с удивлением: «Как будто раньше я не говорил так много?»