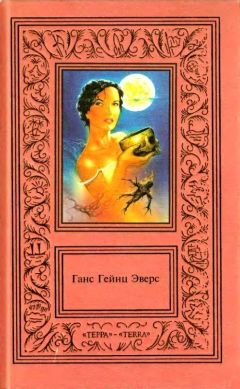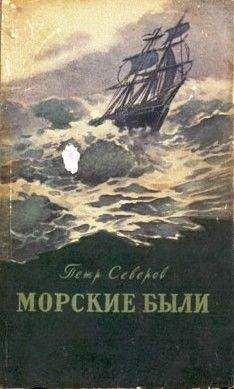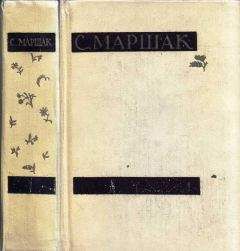Петр Северов - Сочинения в двух томах. Том первый
Поднимать тревогу на хуторе дедушка Мефодий не нашел нужным. Когда-то и ему доводилось бегать от властей. Он понимал, что человек оказался на морозе босой и раздетый не по доброй воле.
Четверо суток обмороженный незнакомец метался в бреду, и дедушка Мефодий не отходил от его постели. Он варил целебные травы, в которых знал толк, и насильно вливал горячий отвар в рот больному; парил ему ноги в густом настое из редких кореньев, снова и снова растирал тело, и когда на четвертые сутки человек открыл затуманенные глаза, дедушка Мефодий понял, что задержался на свете не напрасно: он спас человеческую жизнь.
С первым проблеском сознания, порываясь подняться, Митенька спросил:
— Где сумка?
— Мне она без интересу, — сказал дед. — Вон, видишь, на печке лежит?
Кусая губы, Митенька долго собирался с мыслями:
— Дедушка, послушай… Кто знает тут, на хуторе, обо мне?
Мефодий покачал головой:
— Шалфей, медуница, аир… волчеягодник, шелюга… Только волшебные травы знают да я…
Митенька глубоко вздохнул, улыбнулся и сразу же уснул.
* * *Летом того же года Трифонов случайно узнал, что в поисковой партии геолога Лагутина, кроме шахтера Горлова и еще двух помощников, работал повозочным Митенька Вихрь. Насмешливый купчик рассказывал, будто ходит Митенька за геологом по пятам, преданный, как собака, носит его инструменты и книги, роет в оврагах траншеи, собирает камни, а ночью охраняет лагерь и пасет серого в яблоках коня.
— Встретиться бы мне с этим злодеем немного раньше, — задумчиво сказал Трифонов. — Я бы его ногами затоптал!..
Впрочем, эти слова вырвались у него невольно. Теперь он был бессилен. Он даже опасался встречи с Митенькой. В апреле месяце начальник екатеринославского охранного отдела приказал ему подать в отставку. Почтенные граждане Лисичьего Байрака — Оскар Эльза Копт и Данило Шмаев написали начальнику жалобу на исправника Трифонова, утверждая, что он занимался вымогательством и был связан с противогосударственными элементами. Трифонов мог считать, что ему еще повезло. Его не судили. Он уехал к тетке, в глухую деревню под Волновахой, и запил.
* * *Я слышал эту историю в юности, от старых шахтеров Лисичанска, в первые мои ночные смены, на Седьмом пласту.
Мне запомнилось, что старые горняки называли Лагутина «шахтерским батькой». В те трудные времена, в начале века, открывая все новые пласты и прослеживая продолжение уже известных, он продлил существование многих донецких рудников и многих шахтеров спас от безработицы.
Знающие люди говорили, что он побывал и на нашем Седьмом пласту и предсказал продолжение этой свиты далеко отсюда за Донцом, в районе Кременной, где в те годы не было ни одной шахты и никто не предполагал наличия угля.
Молодые шахтеры слушали эти рассказы стариков, затаив дыхание. В жаркой и темной лаве изломы пласта сверкали от слабого света лампочек, как звезды. И вот уже, казалось, над головой плыла другая, наземная ночь, и в переулках Лисичьего Байрака слышался твердый, пружинистый шаг: молча, торжественно шли шахтеры, окружив ученого черной живой стеной, готовые к схватке, к смерти, к подвигу.
…И довелось мне случайно в пути, на счастье, в районе Привольного, что на берегу Донца, увидеть августовским вечером у костра двух геологов-изыскателей…
Старый забойщик из Лисичанска осторожно взял меня за локоть и сказал:
— Вот они, сынок…
Могучий, опаленный солнцем старик спал на охапке сена, раскинув сильные руки. Позже я узнал, что это был Горлов… А у костра сидел загорелый, обветренный, крепкого сложения, очень красивый человек и, склонившись к огню, задумчиво рассматривал какие-то камни. Это был Митенька Вихрь… В ту пору Лагутина уже не было в живых: он умер на полевых работах в Кузбассе. А Митеньке Вихрю, как видно, накрепко запала в душу горячая лагутинская каменная страсть.
СОВРЕМЕННИКИ
Рассказы
Московские огни
Огонек паровоза возникал в глубине ночи всплеском слабой звездочки. Вспыхнет, погаснет и снова, уже уверенно, засветится. Сначала он не привлекал внимания: здесь, на железнодорожном узле столицы, у стрелок, пакгаузов, на разгрузочных площадках, на «хвостах» эшелонов тлело, горело, скользило, искрилось множество огней. А если подняться на виадук, что притих в вышине, похожий на узорную тень, — взгляду открывалась еще одна чудесная галактика, смещенная на железнодорожные пути.
Нам, впрочем, было не до красот сортировочной станции Москва-Рогожская: мы выгружали уголь и дорожили временем. За каждую разгруженную платформу некий кряжистый, краснолицый дяденька-подрядчик выкладывал по семи рублей чистоганом и рассчитывался без промедлений, не позже девяти утра.
Он говорил, что наша артель пришлась ему по душе. Видимо, потому и наведывался к нам на площадку через каждые полчаса. Работали мы, действительно, споро и весело: с шуткой-прибауткой, с острой подковыркой, с дружным беззлобным смехом. Кто-то из наших сказал подрядчику, что так могут работать лишь одержимые, однако он не понял. Между тем это замечание было верно: артель и состояла из одержимых — артистов, художников, музыкантов, поэтов… конечно, будущих. Беззаветно влюбленные в искусство, прибывшие в Москву на учебу со всех концов страны, все мы не понаслышке знали труд и потому нисколько не удивлялись и не грустили, что здесь, в столице, у подножия нашего желанного Олимпа клубилась угольная пыль.
В девять утра, шатаясь от усталости и от бессонной ночи, мы наскоро мылись под водонапорной колонкой и, прихватив у торговок, что постоянно ютились под виадуком, какую-нибудь снедь, «заправлялись» на ходу и спешили к своему трамваю.
Опаздывать было бы гибели подобно: в те знойные августовские дни 1927 года на улице Мясницкой, в доме 21, в здании Единого художественного рабфака шли приемные испытания, и, что ни день, что ни час, в длинном, полутемном коридоре все увеличивалось число рассеянно-грустных молодых людей: они уже «срезались» на экзаменах.
Мне навсегда запомнился длинный полутемный коридор, наполненный тишиной ожидания. За одной из его многочисленных дверей священнодействовала приемная комиссия. Можно было подумать, что непременным условием ее работы было наистрожайшее молчание. Сколько ни выстаивали мы у двери, сколько ни прислушивались, приникая ухом к медной замочной планке, — из кабинета целыми часами не доносилось ни звука. Быть может, ученым мужам, что заседали за подчеркнуто стандартной дверью, она была необходима, такая ритуальная тишина, для безошибочной сортировки наших судеб?
Но вот наступало время перерыва — и строгая дверь неслышно раскрывалась настежь, а мы, отпрянув, замирали у стены, длинная и пестрая шеренга провинциалов, среди которых, впрочем, за короткий срок знакомства уже были распределены громкие имена: «второй Чайковский», «второй Куинджи», «второй Качалов», до десятка «вторых Есениных» и почему-то ни одного «третьего».
Медлительные седовласые члены комиссии еще, конечно, не подозревали присутствия в этом коридоре целой плеяды «вторых» и проходили, не замечая нас, поглощенные глубокомыслием и чувством собственного достоинства. Мы смотрели на них, как верующие на иконы, не догадываясь о том, что это были простые общительные люди, ветераны самой доброй профессии — учительства; что они понимали наше состояние и сочувственно разделяли наши тревоги, однако им приходилось помнить две цифры: на рабфак предстояло зачислить восемьдесят человек, а прибыло и рвалось к экзаменам свыше тысячи.
Что это был за табор во дворе по улице Мясницкой, 21! Заняв солнечный закоулок вблизи ворот, тесным, симметричным кругом прямо на асфальте обособились поэты: поочередно они читали, нашептывали, выкрикивали свои стихи, а один лохматый дядька, не признававший обычного чтения, — распевал свои вирши зычным басом, угрюмо и торжественно, как диакон.
Актеры толпились отдельно, почти каждый при модных, массивных, роговых очках и с обязательным бантиком на шее; оттуда временами доносились то яростные возгласы Отелло, то леденящий душу хохот Мефистофеля, то пронзительный голос «второй Ермоловой», бойкой, вертлявой девицы, выступавшей на «бис»: она заканчивала избранную сценку эффектным прыжком и воплем: «Отдай, мерзавец, моего ребенка!»
У актеров был еще и «филиал» — эстрадники: эти лихие парни до ночи терзали гитару, приплясывали, истошно и горько выводили цыганские романсы.
Несколько приличнее вели себя композиторы; довольно многочисленную группу их возглавлял «второй Чайковский» — высокий, благообразный, уже пожилой мужчина с постоянной мечтательной улыбкой на устах и привычкой томно опускать ресницы. Он доверительно говорил коллегам:
— Бородин был высокоталантливым композитором!