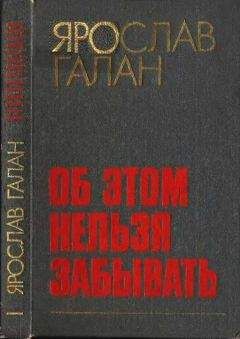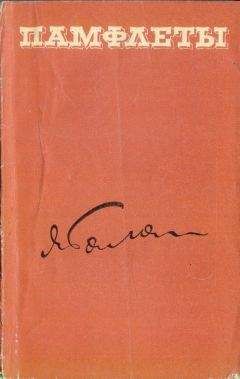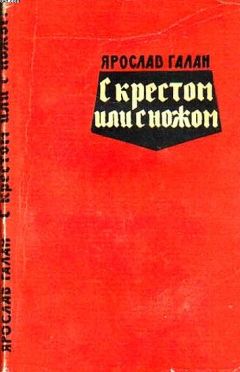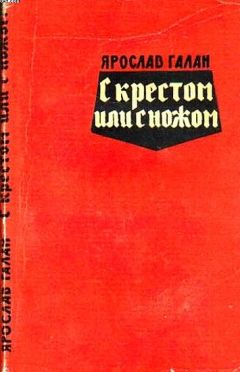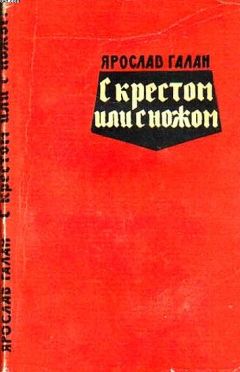Валентин Катаев - Том 2. Горох в стенку. Остров Эрендорф
— А что вы, например, делали такого сверхбюрократического?
— Я-с? А очень даже многое-с… И Вася может подтвердить. Бумажки, например, по два месяца в столе держу иногда. И не какие-нибудь, а важные. Без доклада никого не пускаю к себе-с. На курьера кричу-с… Хе-хе!..
— И это все?
— Н… нет-с… А то вот еще такой случай был. Как-то остался я замещать своего прямого начальника — так, верите ли, два месяца сам себе отношения писал и сам себе на эти отношения отвечал… Ась? Об этом даже на днях товарищ Орджоникидзе в докладе упомянул-с…
— Для первой страницы маловато. На первой странице у нас место занято Макдональдом, Гендерсоном, Томасом и К°. Ваша волокита по сравнению с ихней волокитой — детские игрушки. От вашей волокиты пострадало десятка два посетителей да пудов сорок писчей бумаги… А там, дорогой товарищ, весь рабочий класс Англии пострадал! Вот это работка-с!
— Значит, на первую страницу не возьмете?
— Не возьмем.
— А Васина записочка-с?
— Не поможет.
— Может быть, все-таки…
— Нет-нет! И не просите! Макдональда вам по части волокиты, я вижу, не покрыть. Кишка тонка. Вы что? Пережиток, мразь, извините, ничтожный бюрократический щенок. А Макдональд — это действительно волокитчик в мировом масштабе. Первейший из всех бюрократов Второго Интернационала.
— Значит, не напечатаете?
— На первой странице — нет. Сбегайте на четвертую страничку, — может быть, там, петитом…
— Может, на первую?.. Тетя Соня кланялась… А?
— Нет-нет! Идите на четвертую! До свидания, товарищ бюрократ.
Тусклый посетитель сгорбился и поплелся на третью страницу.
Выходя из редакции, я увидел тусклого посетителя. Он стоял, окруженный друзьями, и, вытирая оловянные глаза большим несвежим носовым платком с синей каймой, говорил, всхлипывая:
— Не принял, подлюга, на первую страницу. Пришлось на третью забираться. Не повезло. Конечно! У этого самого паршивого Митрофана Горчицы свой кандидат, оказывается, свой кандидат на первую страницу был — Макдональд. За него, говорят, специально Кук из Лондона приезжал хлопотать. А у меня записочка от Васи. Нешто Васе с Куком тягаться! «Вы, говорит, мелочь, а Макдональд, говорит, в международном масштабе!.. Кишка, говорит, тонка!» А пустите вы меня на международную арену — я вам покажу, как надо волынить! Дайте мне инициативу, я бы им показал, что такое настоящий бюрократизм! Не дают только, сволочи, ходу! Бюрократы паршивые!
1926
Спутники молодости*
Фельетонист газеты зажег на своем хорошо оборудованном письменном столе сильную, яркую полуваттную лампу под зеленым колпаком, придвинул к себе стопку тщательно нарезанной белой бумаги, отхлебнул глоток крепкого до черноты, душистого чая и, закурив толстую папиросу Уктабактреста, мечтательно выпустил в потолок синеватый клуб дыма.
В калорифере паро-водяного отопления постукивали молоточки. От него исходило упоительное тепло. За окном кружился легкий снег. Вечерело…
Фельетонист обмакнул перо в чернила и решительно написал: «Фельетон». Потом зачеркнул и написал: «Маленький фельетон». Немного подумав, зачеркнул «Маленький фельетон» и вывел красивыми буквами: «Октябрьский фельетон».
Фельетонист полюбовался на свой почерк, нарисовал сбоку человека с длинным носом, надел на него цилиндр, устроил на глазу монокль, а внизу написал: «Чемберлен». Затем приделал Чемберлену длинную черную бороду, перечеркнул лист, смял его и бросил в корзину.
— Тьфу, дьявол! Четвертый вечер сижу и ничего не могу высидеть! Хоть плачь!
Фельетонист встал из-за стола, сердито лег на диван и закрыл глаза.
— Не желаю — и баста! Нету темы. Не машина я, в самом деле, чтоб за четыре дня фельетоны Октябрьские писать!
— Постыдились бы так говорить, товарищ! — произнес вдруг над ухом фельетониста чей-то густой, железный бас. — Просто срам, молодой человек! Фу!
Фельетонист вздрогнул и открыл глаза. Возле дивана стояла небольшая железная печка на маленьких ножках и укоризненно качала своей коленчатой прожженной трубой, похожей на шею жирафа.
— Что вам, собственно, угодно, гражданка? — строго спросил фельетонист. — И с вашей стороны это даже довольно неделикатно — врываться без спроса в кабинет к незнакомому, занятому человеку. Попрошу вас удалиться, я не имею чести быть с вами знакомым!
— Хо-хо! Это мне нравится! Не узнаете вы меня, что ли?
— Н-н-не припоминаю что-то, извините. Кто вы такая?
— Не припоминаете? — обиделась печка. — Очень мило с вашей стороны! Этого я от вас никак не ожидала! Я — «буржуйка».
— Буржуйка? Тем нахальнее ваше поведение. Между мной и буржуйкой не может быть ничего общего.
— Именно «буржуйка». Или «румынка». Как вам будет угодно. Не узнаете?
— Позвольте… «Румынка»… «Буржуйка»… Позвольте… Как будто бы… немножко ваша труба… мне знакома… — пролепетал фельетонист, всматриваясь в печку. — Где мы с вами встречались?
— Хо-хо! Эт-то мне нравится! Везде мы с вами встречались, дорогой товарищ. В частности, я у вас в комнате жила подряд три года — тысяча девятьсот девятнадцатый, двадцатый и двадцать первый. Вы еще меня тогда полным собранием сочинений Боборыкина топили. «Хорошо, шельма, писал, говорили, два месяца я на нем воду кипячу, а все конца-краю ему не видать». Ну, припоминаете теперь?
— Голубушка! — воскликнул фельетонист в сильнейшем волнении. — Мам-мочка! Теперь узнаю! Узнаю! Ради бога! Какими судьбами? Садитесь, пожалуйста! Чайку, может быть, стаканчик выпьете? Кофейку? А я, признаться, думал, что вас давным-давно в Москве не существует.
— Вообще не существует. Но в частности, в полночь накануне Октябрьской годовщины… Иногда… В качестве, извините, праздничного призрака… специально для беллетристов… А насчет чаю не беспокойтесь, сыта по горло! Мерси!
— О, как мило с вашей стороны, что вы пришли! А то, знаете, буквально не знаю, что писать. Все в голове какие-то, представляете себе, жареные меньшевики с яблоками копошатся. То есть гуси… Обалдеть можно.
Печка укоризненно покачала головой:
— Ай-яй-яй! Нехорошо забывать спутников молодости. Нехо-ро-шо! Небось если бы не я, вы бы десять раз подохли и до девятой годовщины не дотянули. Ух какое было тяжелое время! Помните?
— Еще бы! Тяжелое, да! Но вместе с тем чудесное, незабываемое, героическое, молодое время! Вот, гражданка печка, смотрю я на вас — и передо мною всплывают одна за другой картины этого времени… Свистит буйный ветер революции. Холодно. Голодно. Коченеют руки. И вместе с тем как работалось! Замечательно работалось! Вызывает редактор. Так и так, говорит, красные части отходят от Царицына. Надо предотвратить панику. Бодрый фельетон. Через двадцать минут чтоб был на столе. Есть! И действительно… Еле в отмороженных руках держишь карандаш… Бумага рвется… И тем не менее ровно через двадцать минут у редактора на столе фельетон. Да не какой-нибудь, а огненный, страстный, ударный! Как динамитный патрон! Эх, было время!
— То-то же! А вы говорите — писать не хочется! Постыдились бы! Разленились вы, батенька, вот что! Отъелись. Обуржуились малость, извините меня, старуху, за откровенность. Говорите, что писать не о чем? Ерунда! Вспомните двадцатый год!
— Верно, правильно! — раздался тоненький голосок, и фельетонист с удивлением увидел у себя на плече довольно странную бутылочку из-под горчицы, с трубкой, воткнутой в пробку. — Что, может быть, вы и меня не узнаете?
— Н-не совсем… извините, уважаемая бутылочка… Что-то не припомню…
— Не припоминаете? Я так и знал! И никакая я вам не бутылочка! Я — светильник-с. Обыкновенный бензиновый светильник образца двадцатого года. При моем свете вы писали тогда свои огневые фельетоны. Надеюсь, вспомнили?
При этих словах электрическая лампа погасла, а светильник торжествующе вспыхнул четырьмя яркими язычками пламени. Тени заметались по комнате.
— Узнаете теперь?
— Узнаю, узнаю. Как же! Милый вы мой, дорогой светильник!.. Садитесь!
На глаза у фельетониста навернулись слезы.
— А меня не узнаете?
— А меня?
— А меня?
Фельетонист вскочил с дивана и увидел, что комната наполнена множеством странных, но до боли знакомых вещей. Березовое полено молчаливо, но приветливо стояло у письменного стола, скептически поглядывая на начатый фельетон. Бязевые красноармейские кальсоны с клеймом сидели на стуле, небрежно закинув нога на ногу. По паркету бегали деревянные сандалии, отбивая чечетку. Мерзлый картофель громыхал в солдатском котелке. Медная зажигалка щелкала и стреляла длинным багрово-огненным языком. Серная спичка вспыхнула синей точкой, зашипела, затрещала, наполняя воздух удушливой вонью…