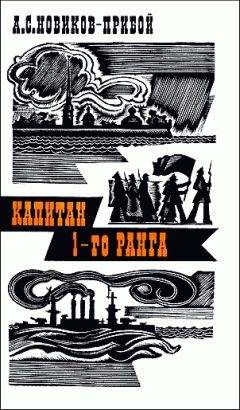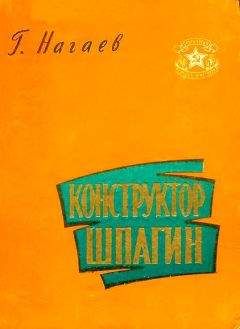Алексей Горбачев - Сельская учительница
— Это как то есть не по существу? — строго спросил старик. — У меня у самого — сыны, внуки. Я за каждого в ответе. Вчера Петька на тракторе поехал, да поломка у него случилась. Кто виноват? Я. Не научил, значит, обращению с машиной. А как же? Или внук в школе набедокурил, опять же я виноват, потому что моя кровь, моя фамилия. А ты говоришь, не по существу. По существу! Я вот желаю знать, почему детишек бросил? Мы тут слушали, вон какие дела молодежь делает. Вы уж будьте добры, товарищ лектор, ответьте нам про своего сынка. Разъясните все как есть, чтобы всем было понятно, чтобы ясность была.
Федор Терентьевич подавленно молчал. В зале зашумели, Подрезов потряс звонком, призывая всех к порядку, погрозил пальцем старику.
— Ты, Никифор Герасимович, порядка не нарушай.
Вместо того чтобы угомониться, Вершинин, что-то бормоча, вышел и встал перед сценой лицом к зрителям — высокий, прямой, колючий.
— Это как же, товарищи, надо понимать, это какой же я порядок нарушаю? — спрашивал он, обращаясь к залу. — Я порядок люблю, уважаю, можно сказать. Я за советский порядок в гражданскую в окопах мерз, а сыны мои — в эту Отечественную. Кто плохо скажет про моих сынов? Никто! А ежели товарищ из области про молодежь нам рассказывал, а ежели у самого товарища из области свой сынок шапку в охапку — и Митькой звали, то почему же мне по-отцовски не поинтересоваться? Ежели бы я знал такое дело, не пришел бы на лекцию. На кой ляд мне слушать человека, у которого свой сын сукин сын! Товарищ из области с народом приехал говорить. Так ты говори с народом по-чистому, ты ему всю правду. Зачем же про других говорить, а про своего молчать? Нет, не балуй! Ты говори так: извините, товарищи, сам я не доглядел, есть у меня свой, не дай бог, чтобы ваши такими были. Товарищ из области дальше поедет, другие его будут слушать. А как же его слушать, если у самого рыльце в пушку.
В зале смеялись, аплодировали старику Вершинину. Валентина видела, как Федор Терентьевич собрал свои бумажки и, сутулясь, удалился за кулисы.
— Ну и старик! Подсыпал перцу лектору, — смеялся Саша Голованов.
— Так им и надо, лицемерам, — одобрительно откликнулась Валентина.
* * *Кругом бушевала весна.
Тот, кому доводилось видеть, как начинает она хозяйничать в степи, вероятно, наблюдал такую картину: еще уверенно лежит подернутый стеклянной коркой снег, а на пригорке вдруг проклюнется первый тоненький ручеек, извилисто побежит вниз и вмиг пропал, заглох в сугробе. Но нет, присмотрись, прислушайся — он жив, этот первый ручеек, он журчит под снегом, и ему вторят его собратья, они находят друг друга, как птицы, что собираются в стаи, и через день, через два, через неделю уже мчится бурливый поток…
Так же бурлила в груди Николая Сергеевича долгожданная радость. И молодой таксист тоже радовался. Проезжая мимо города, он связался по радио с диспетчером, сказал, что выполняет ответственнейшее задание чуть ли не государственной важности, и выключил счетчик. Потом он слушал рассказ пассажира, удивленный тем, что еще не написана книга о военных подвигах нынешнего директора школы.
Николай Сергеевич смеялся, подзуживал, что машина, мол, ползет, как черепаха, смотрел по сторонам, любуясь голубым весенним небом, опускал стекло, вдыхая полной грудью упругий пряный ветер.
А вот и Михайловка… Солнце только-только скрылось, и над селом повисли дымчатые влажные сумерки, какие бывают только ранней весной, когда воздух до отказа напоен пахучим паром оттаивающей земли.
— Давай, Дима, прямо по улице. Только, чур, не дави гусей.
— Слушаюсь, товарищ начальник! — дурашливо отозвался таксист.
— А теперь — стоп! Вот что, Дима, видишь, дом с крыльцом и голубыми ставнями? Поезжай туда, скажи хозяйке, Марии Михайловне, пусть праздничный ужин готовит и ждет гостей. Сам тоже оставайся.
В избенке горел свет. Николай Сергеевич хотел было ворваться, но перед дверью оробел, остановился, прислушиваясь к гулко бьющемуся сердцу и раздумывая, как вести себя, как сказать, что она — его дочь?
«К черту все! Скажу — и крышка», — отмахнулся он.
Дома была Лиля.
— Где Варя? — торопливо спросил он.
— Какая Варя?
— Валя! Валя!
— В Доме культуры на лекции, а я вот не пошла — некогда…
Какая досада! Надо бежать в Дом культуры… Нет, погоди, взгляни еще.
— У Вали есть фотография…
— У нее много, вон альбом лежит на этажерке.
Николай Сергеевич взял альбом, раскрыл его и на первой странице увидел знакомую, потемневшую от времени фотографию.
— Ну, еще здравствуй, дочурка…
— Николай Сергеевич, что вы там шепчете?
— Не шептать, кричать надо от радости! Дочь нашлась. Дочь! Вот она!
— Валя! — ошеломленно вскрикнула Лиля и в чем была одета, в том и кинулась на улицу, побежала в Дом культуры. А он листал альбом и на каждой странице видел Вареньку; теперь он находил ее среди малышей, среди взрослых… Вот она, совсем еще маленькая, вот она школьница, пионерка, комсомолка, студентка, вот и учительница у них в Михайловке… Она росла без него, без отца, она росла без матери… Чужие люди рассказывали ей, маленькой, сказки, чужие люди укладывали ее в постельку, чужие люди тревожились, когда она болела корью или ветрянкой, чужие люди собирали ее в первый раз в школу, радовались ее успехам. К чужим людям она бежала с первыми своими детскими печалями. А он, родной отец, ничего не знал, она выросла без него…
— Я не виноват, доченька, — чуть слышно говорил Николай Сергеевич и впервые за многие годы плакал…
* * *На следующий день вся Михайловка узнала о событии, в которое трудно было поверить: Николай Сергеевич нашел дочь, а Валентина Петровна — отца. Их поздравляли, их радости откровенно радовались. Василий Васильевич потребовал «обмыть» такое счастливое происшествие. Обнимая подругу, Лиля восклицала:
— Прямо как в романе, как в кино! Ты счастливая, Валечка.
Валентина пришла на урок в десятый класс. Ребята встретили ее стоя. Все они улыбались. На учительском столе она увидела розовый стаканчик с пучком голубых подснежников. Утреннее свежее солнце врывалось в окна.
— Здравствуйте! Садитесь, — как всегда сказала Валентина.
Вместо того, чтобы сесть за парты, ребята, будто по команде, подбежали к ней, окружили тесным кольцом. Конечно же, это было не педагогично, это совсем не походило на начало урока русской литературы. Девушки без стеснения обнимали и целовали свою молоденькую учительницу, юноши пожимали ей руку и поздравляли.
— Спасибо, спасибо, друзья, — благодарила смущенная Валентина.
— А теперь по местам. Начали урок, — скомандовал Дмитрий Вершинин.
Все сели за парты, посерьезнели.
— Валентина Петровна, сегодня вы будете ставить нам только пятерки, — сказала Аня Пегова.
Учительница улыбнулась.
— Вы думаете, я от счастья подобрела?
— Нет, ради вашего праздника мы просто все хорошо подготовились к уроку, — ответила Женя Кучумова. — Любого спрашивайте!
— Хорошо. Кто первый? Встал Яков Турков.
— Я, Валентина Петровна.
* * *Встретив на улице Николая Сергеевича, Подрезов крепко стиснул его руку, шумно заговорил:
— Ну, поздравляю! Хороша дочь. Настоящая!
— Заслуга не моя, — грустно ответил Николай Сергеевич. — Другие вырастили, другие воспитали.
— Но, но, директор, это ты брось, — погрозил с улыбкой председатель. — Ты вырастил и ты воспитал, а вместе с тобой и мы все — я, пятый, десятый. Понял? Народ! Твоя радость — наша радость.
Так говорил Роман Прохорович Подрезов. Но есть люди, для которых чужая радость, что порошинка в глазу — режет, не дает покоя, слезу выжимает.
Побыв на уроке арифметики в четвертом классе у Борисовой, Марфа Степановна восклицала:
— Очень хороший урок, Анна Александровна! Вы знаете, я человек придирчивый, но сейчас у меня даже нет замечаний. И дисциплина и работа класса — все на высоком уровне.
— Благодарю, Марфа Степановна, но я сама заметила свой промах: мало уделяла внимания Володе Иващенко, он у меня из-за болезни поотстал немножко.
— Это постороннему незаметно. Вы домой? Погодите минутку, вместе пойдем.
Анна Александровна озадаченно посмотрела на завуча — что это с ней? И урок похвалила, и домой проводить вызвалась.
Они вместе вышли на улицу. Марфа Степановна жаловалась на недомогание, простыла вчера, вынося навоз из коровьего хлева.
— Вот что значит одна, — сетовала она. — Был бы муж, глядишь, помог бы, это ведь мужское дело. Смотришь иногда на замужних и зависть берет, и обидно порой за них становится.
— Зависть, это понятно. Но почему обидно? — спросила Анна Александровна.
— А потому обидно, что некоторые мужья на других посматривают.
— Значит, другие лучше, — рассмеялась Борисова.