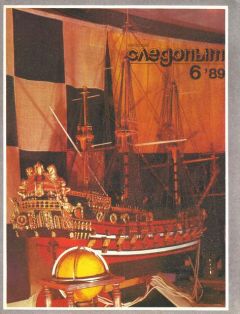Сергей Малашкин - Записки Анания Жмуркина
— Жмуркин, не рады, что рана на руке затягивается так хорошо и пальцы начинают уже оживать?
— Спасибо, доктор, за лечение, — ответил я и наивно спросил: — А вместо оторванных двух пальцев новые вырастут? Я не вижу, чтобы они начинали расти. Может быть, они растут там, под Двинском? Тогда, конечно, надо ехать за ними туда.
Александра Васильевна выпрямилась. Блестя из-под стекол очков близорукими карими глазами, она обратилась к сестре:
— Иваковская, наложите бинт.
Нина Порфирьевна забинтовала мне кисть руки. Сестра в этот раз была неласкова: вероятно, мой ответ врачу не пришелся и ей по душе. Я вышел за дверь перевязочной, слегка пошатываясь. Провожая меня, Нина Порфирьевна заметила за порогом:
— Жмуркин, зачем обидели Александру Васильевну?
— Я? И не думал, сестрица.
— Нет, обидели. Александра Васильевна патриотка, она любит родину, — пояснила горячо и укоризненно Нина Порфирьевна. — Вы не должны отвечать так.
— Да? Как же, сестрица, я должен был отвечать?
— Что вы готовы поехать на фронт… служить родине, — сказала Иваковская и с упреком спросила: — Скажите, у вас есть родина?
— Есть, — ответил я твердо.
— Чувствовать ее землю, вдыхать ее воздух всегда приятно, — оживившись от моего ответа, сказала Нина Порфирьевна. Ее глаза стали мягче, добрее. Их огонь стал ярче и ласкал.
— Еще бы, — подхватил я, — иметь такую родину, которая занимает одну пятую часть…
— Вот вы завтра, когда придете на перевязку, и скажите Александре Васильевне, что готовы отдать жизнь за отечество.
— Завтра не скажу, сестрица.
— Почему, Жмуркин?
— У моего отечества сейчас еще много пасынков, а сынков… Среди пасынков нахожусь и я. Вот когда не будет этих пасынков, тогда я и скажу.
— Ах, вот что? — удивилась сестра и растерянно улыбнулась. — Теперь я понимаю… Начинаю понимать вас. Да, лучше не говорите ничего Александре Васильевне.
У меня закружилась голова, и я чуть не упал в коридоре, — я еще не оправился от большой потери крови. Кисть руки горела, словно под лубком, ватой и марлей находился зверек и вгрызался в рану. Сестра помогла мне войти в палату, снять халат и лечь на койку. Я накрылся одеялом. Нина Порфирьевна позвала монашка в перевязочную. Я заметил у него грушеобразный живот. «Уже наел», — подумал я. Остальные — Прокопочкин, Алексей Иванович, Семен Федорович, Синюков, Первухин и Шкляр — были вчера у врачей. Алексей Иванович и Семен Федорович тихо стонали. У первого на груди не больше спелой земляники ранка, а на спине она с чайное блюдце; у меня потемнело в глазах, когда я увидел ее в перевязочной. У Семена Федоровича оттяпана нога по самую ягодицу, и конец ее обрубка рдел, как мякоть зрелого арбуза, не затягивался кожей. Он с каждым днем становился все мрачнее, даже перестал плакать. Морозова перевели в чахоточное отделение. Он, пожалуй, отвертится от фронта. Но я старался не думать о нем: считал его поступок гнусным. Да и каждый раз, когда Первухин произносил его фамилию, меня начинало тошнить. Увидав сестру на пороге, раненые прекратили разговор. Как только она с Гавриилом вышла, разговор возобновился.
Первухин и Прокопочкин сидели на койках.
— И все это сон, — вздохнул Прокопочкин, — но забыть его не могу, стоит перед глазами. Да и как забыть? Люди, что находились в одной роте, все передо мной. Ну куда я от них, мертвых, спрячусь? Стараюсь не думать о них, а они ярче выступают из памяти. Вот вчера, например, за окнами, на Большом проспекте, шел снег, у магазинов стояли длинные очереди за хлебом, мясом, маслом и крупой, а у меня в глазах окопы, товарищи, гранаты у ног. Люди молодые, сильные. Они любили жизнь, смеялись, грустили… и их теперь нет, их уж, наверно, сгрызли черви. Кем убиты и за что? Ротный у нас был молоденький и не по годам мудрый, справедливый. Солдат любил. Да и солдаты любили его. Возвращались мы однажды вместе с ним с разведки, вошли в околицу разбитой деревушки. На валу околицы одинокая рябина, на ее ветках рдяные гроздья ягод. Я эту рябину сейчас вижу. Молоденькая, гибкая, и вся-то она горит ягодами. Мы задержались возле нее. Кое-кто из солдат стали рвать ягоды и есть. Кое-кто прилегли в канаву, любовались на нее. Ротный подошел ко мне, спросил: «Прокопочкин, дай огоньку». — «Извольте, ваше благородие», — ответил я почтительно, достал спички, чиркнул. Он наклонился к моим ладоням, к зажженной спичке, и стал прикуривать. Лицо у него землистое, испитое, глаза серые, а на губах скорбь. В это время шальная пуля чик ему в левый висок, и он ткнулся лицом в мои ладони, на огонек спички. Потом он упал на колени и выронил изо рта папироску. Я отнял от его лица руки, и он ткнулся в землю. Я склонился к нему, поднял его голову, гляжу, а он уже мертв. И вот я никак не могу забыть его скорби, выражения глаз, его голоса.
Прокопочкин вздохнул, помолчал немного и стал продолжать:
— А однажды, после кровопролитного боя, мы выбили немцев с мельницы и, заняв ее, решили похоронить честь честью своих солдатиков и немецких — мертвые немцы не враги. Да и живые, как я думаю, не враги. Нарыли могил, положили убитых в них, засыпали землей, поставили над ними кресты, вдоль берега и на таком расстоянии, чтобы половодьем их не смыло, и нам стало до того грустно, что мы отошли от мельницы на полверсты назад. Новый ротный не поругал нас за это, что отошли. Он только командиру второго взвода сделал выговор: «На каком основании положили немцев в одни могилы с русскими? Этих варваров надо сбросить в овраг. Они недостойны такой высокой чести — лежать в одних могилах с русскими». Взводный, — он не из мужиков был, из рабочих, кажется, из Нижнего аль из Казани, сутулый такой и со шрамом на правой щеке, — возразил ему: «Мертвые немцы и русские уже помирились, и им не тесно будет в общих могилах: в мире вечном будут лежать». Ротный задохнулся, от ярости. Отдышавшись, он поглядел на солдат, которые и виду не показали ему, что слова взводного пришлись им по душе, погрозил пальцем: «Больше я этого не потерплю. Запомни!» И взял взводного под руку, отвел в сторону и долго распекал его.
Прокопочкин опять громко вздохнул. Мне показалось, что его лицо разделилось на две части: верхняя часть вместе с носом отплыла от нижней, и плакала, и выражала страх; нижняя часть лица горько и наивно, по-детски, улыбалась, показывая молодые белые зубы.
— Теперь там, должно быть, от осенних дождей да изморози солдатики-то загнили. И не узнаешь, пожалуй, в какой могиле Павлов и Шульман, в какой Храмов и Романенко и Шульц… Да где уж там! В общем, я так рассуждаю, все равно… Пройдут годы, сгниют кресты над речкой, — их комельки не обуглены, не просмолены, сделаны наспех из сырого леса и поставлены. На войне все делается наспех… Вот только поэтому и войны часто бывают. Пройдет плуг, распашет землю вдоль берега, хорошо удобренную молодыми жизнями, вырастет на ней богатая рожь или пшеница, зацветет, зашумит тяжелыми колосьями. Придут девчата и парни, сядут на межи и будут петь радостные и грустные песни. И никто из них не вспомнит, что на этом самом месте, где они сидят, поют песни, признаются друг другу в любви и, черт возьми, целуются, не так давно была ужасная бойня: немецкие крестьяне и рабочие штыками вспарывали русским рабочим и крестьянам животы, а русские рабочие и крестьяне вспарывали штыками животы немецким рабочим и крестьянам. Не правда ли, братцы, как ловко придумано? — Слеза сверкнула у Прокопочкина под левым глазом, а сизые губы шире заулыбались, уже не на рюмку с горечью они были похожи, а на небольшую чашу. — И вот какой-то Прокопочкин, батрак и шахтер, заколол штыком в каких-нибудь пятнадцать — двадцать минут восемь немцев. А какой-нибудь Шульц из-под Кёльна или Мюнхена убил столько же русских у этой мельницы. А за что, позвольте спросить? — Его глаза, скорбно плачущие, скользнули по палате и остановились на Первухине.
— А ты, Прокопочкин, спроси у верховного командующего об этом, — сказал раздраженно Синюков. — Он, конечно, в курсе этой войны и, может быть, доложит тебе. А что Первухин ответит? Эх, страдалец! — Синюков всхлипнул и, стеная, слабо рассмеялся. Его смех показался мне неуместным, неприятным. Так смеются только сумасшедшие. Может быть, он сошел с ума? Нет, он утром был нормальным.
Синюков, видя, что все испуганно как-то смотрят на него, сам испугался своего смеха, признался:
— Глупо, да, глупо получилось у меня со смехом. Прокопочкин, прости.
Прокопочкин не ответил. Шкляр вскочил с койки, поправил георгиевские медали и кресты. Их тихий, мелодичный звон разлился по палате и замер. Потом Шкляр опять лег на койку, натянул серое одеяло до пояса. Карие глаза Шкляра сердито блестели, морщины вздулись на лбу. Было заметно, что ему не понравился рассказ Прокопочкина. Он нервно взял со столика яркий журнал «Лукоморье», раскрыл его и минуты две рассматривал картинки, но эти картинки не погасили гнева в нем.