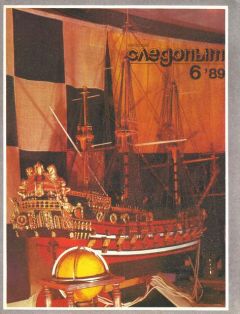Сергей Малашкин - Записки Анания Жмуркина
Первухин насупился и молча отошел от Прокопочкина.
Лицо у шахтера стало серым. Его глаза залились слезами. Он повалился на койку, лицом в подушку. Гавриил перестал молиться, снял халат, повесил его на спинку стула и мышью скользнул под одеяло. Синюков лежал на спине, держа раненую руку на подушке. Его светлые волосы, подстриженные под ерша, сердито топорщились и серебрились. Семен Федорович полуоткрыл веки.
— Немец, с которым ты, Прокопочкин, познакомился в воронке, ушел из плена, а мы остались в нем и будем томиться до самой смерти, — пожаловался в чрезвычайном унынии Семен Федорович.
— Я не думал, Прокопочкин, что ты можешь рассказывать в таком тоне, — простонал Синюков и, блуждая синими глазами по белому потолку, спросил: — В Донбассе работал? Долго?
— Все вы сволочи! — выпалил визгливо монашек. — Вы говорите так, будто над вами нет и ни бога, ни власти. Начнете говорить о войне — опять сведете на политику. Вы черви вредные. Придет главный доктор — и я пожалуюсь ему.
Это всех нас страшно озадачило.
— Братец, замолчи, — просипел Алексей Иванович, не поднимая век. — Сейчас должны принести обеды… Я тебе и нынче котлеты и хлеб отдам. Кушай и поправляйся. Такие солдаты, как ты, нужны… — Алексей Иванович хило улыбнулся. В груди у него клокотало и хлюпало. На его сизых губах — сукровица. Он закашлялся, и капли крови скатились на подушку. Его высокий лоб покрылся по́том. Вместо глаз — темные провалы.
Чувствуя и в его словах политику, монашек ничего не возразил Алексею Ивановичу, только слегка покраснел и провел языком по губам.
— И суп отдам, — откашлявшись, с трудом просипел Алексей Иванович.
— А компот? — спохватившись, спросил Гавриил, опуская глаза долу.
Алексей Иванович промолчал. Шкляр бросил «Лукоморье» на столик, резко вскочил с койки, надел туфли и халат, отцепил георгиевские кресты и медали от гимнастерки и навесил их на грудь халата, запахнул полы и, подтянув пояс, вылетел в коридор. Я глянул на Прокопочкина. Он не лежал вниз лицом на подушке, а сидел на койке и слегка покачивал головой, обхватив ладонями левое колено. Поперек койки, в ногах, поверх одеяла, лежала искусственная, желтая, в черном ботинке нога. В неподвижных глазах шахтера стояли слезы, а синеватые пухлые губы улыбались. «Война не закончила свою работу над ним, она только подменила ему верхнюю часть лица, наполнила его глаза ужасом, слезами. А что у него сейчас в сердце? — размышлял я. — Может, и ему, как и Семену Федоровичу, мерещится, что и его нога прогуливается в Августовских лесах?» Вошел Морозов. На его щеках играл румянец, черные глаза лихорадочно блестели. Морозов подошел к Первухину, лежавшему на койке, положил руку ему на плечо.
— Петруша, скучно тебе без меня, как я вижу? — спросил каким-то тревожно-испуганным голосом Морозов и сообщил: — Комиссия оставила еще на месяц в лазарете. Оказалось много коховских палочек в мокроте. Не рад? Да встань же… Что случилось? Заболел?
— Заболел, — отозвался глухо, с надрывом Первухин. — Ужасно заболел, заболел так, что жизнь не чувствую ни в себе, ни в других. Завтра выписываюсь — и… на фронт. Там, может, найду счастье — убьют.
Монашек выскользнул из-под одеяла и, шагнув ко мне, склонился к моему лицу, зашептал:
— Внизу, в девятой палате, лежит сильно чахоточный солдат…
В это время открылась дверь, показались няни с большими подносами, на которых были судки, тарелки со вторым — котлетами и кашами — и горки хлеба. Они молча и быстро расставили обеды по столикам и ушли.
— Морозов, — наклонившись опять ко мне, зашептал Гавриил, — берет его мокроту себе в рот, а потом эту же мокроту выплевывает для анализа… Ананий Андреевич, Морозов не хочет возвращаться на позиции. Нам о нем надо сообщить врачу.
Меня так и передернуло всего от слов отрока. Начало тошнить. Я только показал кулак монашку. Он отскочил от меня и опять нырнул под одеяло, но, увидав на своем столике обед, поспешно вылез из-под него. Я не прикоснулся к обеду. Гавриил скушал первое и второе Алексея Ивановича, потом свой обед. Затем он осторожно, как-то по-кошачьи, подкрался ко мне и, держа раненую руку на сердце, сладко спросил:
— Обедать не будешь?
— Возьми, — процедил сквозь зубы я.
— Можно? Не шутишь?
— Бери! — отрезал я и повернулся лицом к стене.
— Благодарю. Спаси тебя Христос. Знаешь, Ананий Андреевич, мне надо поправляться. А Морозов… — Заметив, что я завозился под одеялом, он запнулся; забирая со столика обед, он отрывисто пояснил: — Все, что я сказал тебе о Морозове, — истина.
— Возьми, братец, и компот, все забирай, — проскрежетал я, — и убирайся…
Гавриил схватил стакан с компотом. Я закрыл глаза и, прислушиваясь к жадному чавканью отрока, стал смотреть на желтые и розовые звезды, вертевшиеся передо мной в теплом мраке под одеялом.
VIIIАлександра Васильевна Дегтярева, осмотрев мою рану, сказала:
— Отлично заживает. Через два-три месяца мы вернем вас фронту.
Ее бодрые слова, сказать правду, не особенно обрадовали меня: мне не хотелось вторично, хотя я и не был трусом, отправляться на позицию. Но я ничего не ответил врачу, как будто не слыхал ее слов. Она подняла голову в белом колпаке, из-под которого темнели подстриженные, с редкой проседью волосы, остановила сердитый взгляд на мне.
— Жмуркин, не рады, что рана на руке затягивается так хорошо и пальцы начинают уже оживать?
— Спасибо, доктор, за лечение, — ответил я и наивно спросил: — А вместо оторванных двух пальцев новые вырастут? Я не вижу, чтобы они начинали расти. Может быть, они растут там, под Двинском? Тогда, конечно, надо ехать за ними туда.
Александра Васильевна выпрямилась. Блестя из-под стекол очков близорукими карими глазами, она обратилась к сестре:
— Иваковская, наложите бинт.
Нина Порфирьевна забинтовала мне кисть руки. Сестра в этот раз была неласкова: вероятно, мой ответ врачу не пришелся и ей по душе. Я вышел за дверь перевязочной, слегка пошатываясь. Провожая меня, Нина Порфирьевна заметила за порогом:
— Жмуркин, зачем обидели Александру Васильевну?
— Я? И не думал, сестрица.
— Нет, обидели. Александра Васильевна патриотка, она любит родину, — пояснила горячо и укоризненно Нина Порфирьевна. — Вы не должны отвечать так.
— Да? Как же, сестрица, я должен был отвечать?
— Что вы готовы поехать на фронт… служить родине, — сказала Иваковская и с упреком спросила: — Скажите, у вас есть родина?
— Есть, — ответил я твердо.
— Чувствовать ее землю, вдыхать ее воздух всегда приятно, — оживившись от моего ответа, сказала Нина Порфирьевна. Ее глаза стали мягче, добрее. Их огонь стал ярче и ласкал.
— Еще бы, — подхватил я, — иметь такую родину, которая занимает одну пятую часть…
— Вот вы завтра, когда придете на перевязку, и скажите Александре Васильевне, что готовы отдать жизнь за отечество.
— Завтра не скажу, сестрица.
— Почему, Жмуркин?
— У моего отечества сейчас еще много пасынков, а сынков… Среди пасынков нахожусь и я. Вот когда не будет этих пасынков, тогда я и скажу.
— Ах, вот что? — удивилась сестра и растерянно улыбнулась. — Теперь я понимаю… Начинаю понимать вас. Да, лучше не говорите ничего Александре Васильевне.
У меня закружилась голова, и я чуть не упал в коридоре, — я еще не оправился от большой потери крови. Кисть руки горела, словно под лубком, ватой и марлей находился зверек и вгрызался в рану. Сестра помогла мне войти в палату, снять халат и лечь на койку. Я накрылся одеялом. Нина Порфирьевна позвала монашка в перевязочную. Я заметил у него грушеобразный живот. «Уже наел», — подумал я. Остальные — Прокопочкин, Алексей Иванович, Семен Федорович, Синюков, Первухин и Шкляр — были вчера у врачей. Алексей Иванович и Семен Федорович тихо стонали. У первого на груди не больше спелой земляники ранка, а на спине она с чайное блюдце; у меня потемнело в глазах, когда я увидел ее в перевязочной. У Семена Федоровича оттяпана нога по самую ягодицу, и конец ее обрубка рдел, как мякоть зрелого арбуза, не затягивался кожей. Он с каждым днем становился все мрачнее, даже перестал плакать. Морозова перевели в чахоточное отделение. Он, пожалуй, отвертится от фронта. Но я старался не думать о нем: считал его поступок гнусным. Да и каждый раз, когда Первухин произносил его фамилию, меня начинало тошнить. Увидав сестру на пороге, раненые прекратили разговор. Как только она с Гавриилом вышла, разговор возобновился.
Первухин и Прокопочкин сидели на койках.
— И все это сон, — вздохнул Прокопочкин, — но забыть его не могу, стоит перед глазами. Да и как забыть? Люди, что находились в одной роте, все передо мной. Ну куда я от них, мертвых, спрячусь? Стараюсь не думать о них, а они ярче выступают из памяти. Вот вчера, например, за окнами, на Большом проспекте, шел снег, у магазинов стояли длинные очереди за хлебом, мясом, маслом и крупой, а у меня в глазах окопы, товарищи, гранаты у ног. Люди молодые, сильные. Они любили жизнь, смеялись, грустили… и их теперь нет, их уж, наверно, сгрызли черви. Кем убиты и за что? Ротный у нас был молоденький и не по годам мудрый, справедливый. Солдат любил. Да и солдаты любили его. Возвращались мы однажды вместе с ним с разведки, вошли в околицу разбитой деревушки. На валу околицы одинокая рябина, на ее ветках рдяные гроздья ягод. Я эту рябину сейчас вижу. Молоденькая, гибкая, и вся-то она горит ягодами. Мы задержались возле нее. Кое-кто из солдат стали рвать ягоды и есть. Кое-кто прилегли в канаву, любовались на нее. Ротный подошел ко мне, спросил: «Прокопочкин, дай огоньку». — «Извольте, ваше благородие», — ответил я почтительно, достал спички, чиркнул. Он наклонился к моим ладоням, к зажженной спичке, и стал прикуривать. Лицо у него землистое, испитое, глаза серые, а на губах скорбь. В это время шальная пуля чик ему в левый висок, и он ткнулся лицом в мои ладони, на огонек спички. Потом он упал на колени и выронил изо рта папироску. Я отнял от его лица руки, и он ткнулся в землю. Я склонился к нему, поднял его голову, гляжу, а он уже мертв. И вот я никак не могу забыть его скорби, выражения глаз, его голоса.