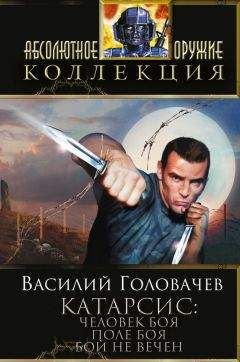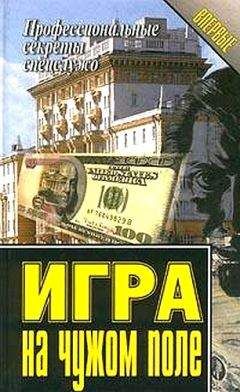Василий Росляков - Мы вышли рано, до зари
Никто ни с кем не сговаривался, но все, как по уговору, скрывали от Пирогова события последних дней. Ни лаборантка Сима, навещавшая Федора Ивановича, ни Кологрив, посылавший декану записки, никто другой ни словом, ни намеком не обмолвился о происшествии на вверенном Федору Ивановичу Пирогову факультете. В этом негласном уговоре проявились уважение к больному декану и простой человеческий такт.
Вся власть на факультете была теперь в руках заместителя декана Дмитрия Еремеевича Небыкова. Он сидел теперь в кабинете Пирогова и пользовался потайным звонком и услугами Шурочки, как настоящий декан.
— Честное слово, — сказал он как-то Лобачеву, — мне даже легче стало. — Небыков перешел на доверительный шепот и, глазами показывая на стол Пирогова, прибавил: — Ты знаешь, Алеша, он же ни черта не делал.
Конечно, Небыкову видней. Но Лобачев эти слова оставил на совести Дмитрия Еремеевича. Тот любил иногда пустить пыль в глаза. Иной раз он мог такую пыль пустить, что люди, много лет знавшие Небыкова, вынуждены были как бы заново открывать его. На последних перевыборах партийного бюро, когда Небыков уже защитил диссертацию и сделался заместителем декана, он первый раз в жизни выступил с самоотводом.
— Товарищи коммунисты, — с глубочайшим уважением к коммунистам сказал Дмитрий Еремеевич, — пять лет я был секретарем, бессменно. Не жаловался. Приотстал в научной работе… И потом, учтите, товарищи, я хожу, можно сказать, с пулей в легком.
С пулей в легком! Никто бы и не подумал, что этот крепкий, с синими цыганскими белками человек, Димка Небыков, Дмитрий Еремеевич Небыков, ходит с пулей в легком. «Можно сказать, с пулей…» А почему «можно сказать»? А можно сказать — и без пули? А может быть, с двумя пулями?.. Надо уважить. И его уважили. Так что Алексей Петрович знает, когда у Димы слова, а когда пули. Но что бы там ни было, Дмитрий Еремеевич любил и умел работать. Не откладывая в долгий ящик, он вызвал к себе Виля Гвоздева для беседы. Виль Гвоздев был тем главным звеном, ухватившись за которое можно было предотвратить дальнейшие никому не нужные эксцессы.
Виль прикрыл за собой дверь, скомкал в руках черный беретик и покорно остановился, не дойдя даже до середины кабинета.
— Ну, что ты остановился? — дружелюбно сказал Дмитрий Еремеевич. — Проходи, присаживайся… Да ты не на диван, а вот в кресло.
Виль сел в мягкое глубокое кресло.
— Куришь? — спросил Дмитрий Еремеевич, открывая пачку «Казбека».
Виль улыбнулся:
— Нет, не курю.
— А ты не стесняйся. Может, ты стесняешься?
Виль еще раз улыбнулся:
— Спасибо, я не курю.
— Ты не думай, Виль, что я тебя на допрос вызвал. — Дмитрий Еремеевич размял папиросу, постучал мундштучной стороной о крышку «Казбека» и закурил. «А что! — подумал он. — Мог бы и на допрос». Ему было приятно, что он может многое, может и на допрос, но он это отменяет, никому это не нужно.
Когда закончились все эти приятные мысли о себе и когда был выпущен первый дым, Дмитрий Еремеевич доверительно склонил к правому плечу голову, крупную, смоляную, с проседью.
— Ты вот что скажи, — обратился он к Вилю. А Виль тихонечко сидел в глубоком кресле и изредка, пока Дмитрий Еремеевич был занят папиросой и мыслями о себе, изредка вздыхал и откашливался в кулачок. — Ты вот что, Виль… Только давай так, без дураков, положа руку на сердце… Скажи, как ты дошел до такой жизни?
У Виля еще не было опыта в подобных разговорах со старшими, и поэтому вопрос Дмитрия Еремеевича поставил его в тупик. Он переспросил:
— До какой жизни?
— Ну как же? — удивился Дмитрий Еремеевич. — Вот ты комсорг курса. Так? Так. Отличник, персональный стипендиат. Так? Так. — Дмитрий Еремеевич оседлал любимого своего конька — железную логику. — Правильно, да? Правильно. К своему докладу ты берешь эпиграф из газеты Луста́ло.
— Лустало́, — поправил Виль.
— Хорошо, Лустало́. Не в этом дело. — Дмитрий Еремеевич читает выписанный им эпиграф: — «Великие мира кажутся нам великими только потому, что мы сами стоим на коленях. Подымемся!» Теперь ты мне скажи, что это такое?
— Эпиграф из газеты Лустало, — ответил Виль.
— А ты зря, Виль, разыгрываешь чеховского мужичка. Ты должен знать, что это субъективный идеализм в чистом виде.
— Как?
— А вот так. Ты считаешь, что объективно великие люди не существуют? Может, назвать имена?
— Не надо.
— Значит, великие нам не кажутся, а существуют объективно?
— Существуют, — признался Виль.
— Будем разбирать вторую часть эпиграфа?
— А зачем разбирать?
— Ну вот видишь? — Дмитрий Еремеевич совсем подобрел. — Оказывается, не так уж трудно разъяснить тебе твои ошибки и заблуждения. Нужно только работать. А мы плохо работали с молодежью, не вникали. — Все эти соображения Дмитрий Еремеевич высказал Вилю, и Виль согласился с ними. — Значит, — пошел дальше Дмитрий Еремеевич, — с эпиграфом мы покончили. Эпиграф неправильный.
— Почему? — сказал Виль. — Правильный.
— ?
— Правильный, — повторил Виль.
— Ты чудак какой-то. Ведь он правильный с точки зрения субъективного идеализма?!
— Почему? С точки зрения исторического материализма. Под «великими мира» в эпиграфе подразумеваются не настоящие великие люди, а только те, которых власть делает великими. «Великие мира» — это ирония.
— Ну это ты брось, — сказал Дмитрий Еремеевич. — Хороша ирония. — Он начал старательно давить в пепельнице окурок. Окурок все дымил и дымил. — И вообще, — сказал Дмитрий Еремеевич, — в твоем докладе много… ну, как тебе сказать… мутного, даже наносного, чужого.
— Я писал его в одну ночь, — сказал Виль, — там могут быть неточные формулировки. Но я писал его честно.
— Честно — не всегда правильно, — заключил Дмитрий Еремеевич. Он посмотрел в бумажку, хотел еще что-то сказать Гвоздеву, но в дверь заглянул Лобачев. — Заходи, Алексей, заходи, — почти обрадовался Небыков.
Лобачев подошел к черному кожаному дивану, присел, положив желтый портфель свой на колени.
— Вот путаник, — почему-то весело сказал Небыков, обращаясь к Лобачеву. — Может, ты поговоришь с ним, Алексей Петрович?
Лобачев молча взглянул на Виля и сказал:
— Да, мне хотелось бы задать ему один вопрос: какие именно взгляды хочется ему пропагандировать и каких единомышленников, как он заявил в своем докладе, хочется ему искать?
Виль не отозвался. Он мял руками черный беретик.
— Ну, что молчишь, давай, друг, говори, — с веселым торжеством сказал Небыков.
Но заговорил опять Лобачев. Он отбросил портфель, поднялся и, поднявшись, сказал:
— Если твои взгляды, Виль, твои идеи не расходятся с идеями нашего общества, с идеями партии, тогда не совсем понятен твой пыл, твое, как бы сказать, ломление в открытую дверь. Тогда, — Лобачев приблизился к Гвоздеву, — тогда мы твои единомышленники — вот моя рука. Но если ты требуешь свободы выражать иные идеи и взгляды — тогда, брат, общество вынуждено поставить перед твоей свободой свою свободу. Свободу избавить себя от чуждых нам идей и взглядов.
Виль поднял на Лобачева невинные глаза и тихо сказал:
— Все, что происходит, Алексей Петрович, мне кажется сложнее того, о чем говорите вы, Алексей Петрович. Мне действительно хотелось бы поговорить с вами, Алексей Петрович, серьезно.
Лобачев коснулся пальцами плеча Гвоздева, но обратился к Небыкову:
— Если ты не возражаешь, мы уйдем с Вилем, уйдем в город, к солнышку, к шуму. — Рыжие глаза Лобачева горели азартом. Улыбаясь про себя, поднялся и Гвоздев.
— Валяйте, — облегченно согласился Небыков.
И после того как закрылась за Лобачевым и Гвоздевым дверь, мысленно сказал самому себе: «Тихонький. Надо посмотреть, что это за тихонький». Он нажал потайную кнопку и попросил Шурочку принести личное дело Виля Гвоздева.
10Алексей Петрович Лобачев, в отличие от своего друга Дмитрия Еремеевича Небыкова, был человеком неорганизованным и небрежным. Не вовремя поел, не вовремя поспал, а в результате подрывается жизнедеятельность человека и вообще его здоровье. Однако Алексей Петрович необыкновенно здоров, с отличным гемоглобином, замечательным сердцем и такими же легкими. И ничего с ним не происходит. Почему? Потому что он неорганизован и небрежен. Парадокс? Но так это есть на самом деле. Организм Алексея Петровича, не надеясь на своего хозяина, со временем сам взял на себя все заботы о себе. Например, идет длинное и утомительное собрание или заседание, люди, что называется, толкут воду в ступе или переливают из пустого в порожнее. Мозг Алексея Петровича дает сигнал, и Алексей Петрович помимо своей воли мгновенно засыпает. Он знает много способов прикорнуть так, чтобы окружающие этого не заметили. И не только на многолюдном собрании, но даже в деловом разговоре, в котором участвуют по крайней мере три человека. Двое обсуждают деловой вопрос, а третий, Лобачев, как только уяснил себе, что деловой разговор имеет только видимость делового разговора, незаметно выключается.