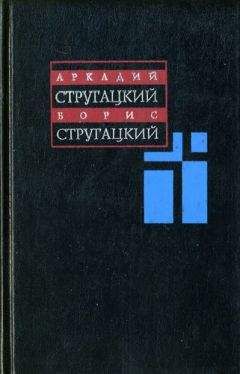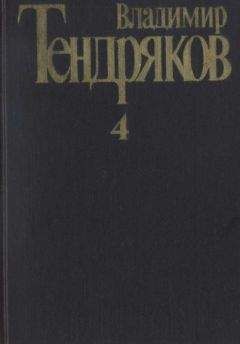Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Т. 2.Тугой узел. За бегущим днем
— Нет! — Стремянник вскочил из-за стола, встал передо мной — крепыш со вздернутыми плечами, в наглухо застегнутом кителе. Из-под выдвинутого вперед лба в тени блестели глаза. Блеск их показался мне сухим и безжалостным. — Нет! Я достаточно себя уважаю, чтоб схватить вовремя за шиворот и приказать: опомнись, дурак, белый свет не мал, ищи другое, пока не поздно!
— А если от того же уважения к самому себе ты не сделаешь этого?
— Если не сделаю, то туда мне и дорога. Значит, я того и стою — быть навеки приживалкой при кино.
Я отвернулся, пошел к своей койке, стал укладываться.
— С тобой что-то случилось? — спросил Юрий.
— Ничего, — ответил я. — Все по-старому, как шло, так и идет.
Стремянник внимательно ко мне пригляделся, но расспрашивать не стал.
Я долго лежал, закинув руки за голову, глядел в потолок. Стремянник потушил свет.
— Должно быть, — произнес я в темноте, — мне каждую ночь будет сниться мальчонка-татарчонок. Не помнишь его, на наш курс поступал, худенький, стриженый, апельсинового цвета ботинки носил?
15Поступая в институт, я, по сути дела, не отличался от тех, кто вообще не занимается живописью. Меня стали учить. Я мог стать художником, но художником в лучшем случае посредственным. В лучшем случае… Из простого, нормального человека, которого волнуют полотна Левитана, у которого перехватывает дыхание при виде мраморной руки микеланджеловского Моисея, я готовился превратиться в подозрительного «умельца». Как это ни странно звучит, но я учился, чтобы стать бездарностью.
Кажется, не может быть другого решения: брось институт, ищи новый путь. Но это просто лишь в рассуждениях.
Я в глубине души все еще продолжал надеяться, что вдруг да произойдет переворот, перепрыгну всех Парачуков, Гавриловских, Гулюшкиных. Разумом я не верил в чудеса и все-таки ждал их.
Мало того, временами я начинал кривить совестью, ударялся в рассуждения. Я учусь в институте кинематографии, меня готовят не мастером станковой живописи, которому придется воевать за место в Третьяковской галерее на будущих выставках. Художник кино — это костюмы, это декорации, это своего рода прикладное искусство. Даже поговаривают в шутку, что одно из основных достоинств кинохудожника — умение быть хорошим хозяйственником, вовремя доставать фанеру, доски и прочие принадлежности для своих декораций.
Однако такие размышления находили на меня лишь временами. Я очень быстро трезвел. Нечего сказать, художник, не умеющий создать хорошего эскиза, слепо работающий по подсказке, неспособный к творчеству! Кому ты нужен такой? Твой друг режиссер Юрий Стремянник наверняка первым бы отказался от твоих услуг.
Я колебался, искал себе оправдания и продолжал, как все студенты, посещать занятия, по-прежнему торчал у мольберта положенные часы.
И мои колебания сделали свое дело. Мое упрямство ослабело, от прежней настойчивости не осталось и следа. Я перестал заполнять свои блокноты рисунками, по воскресеньям уже не ставил перед собой натюрмортов из консервных банок и луковиц, в свободные минуты переставал думать о живописи: во-первых, эти бесконечные сопоставления тональности, рефлексов, цветов мне опротивели; во-вторых, мне просто некогда было о них думать — голову распирали другие мысли.
Я, обогнавший было Гавриловского и Парачука, снова оказался в самом хвосте своего курса. Преподаватели недвусмысленно мне намекали, что после зимней сессии будет просматриваться список учащихся, возможен отсев.
Я все это выслушивал равнодушно, не испытывая ни малейшей тревоги.
Шел день за днем, кончалась одна неделя, начиналась другая.
И вот наконец случилось неизбежное.
Я стоял за мольбертом и вяло тыкал кисть в холст, пытаясь выписать лошадиную челюсть старика с жилистой шеей. Могучая челюсть получалась у меня ватной, округлой. Кто-то стал у меня за спиной, я не повернул головы, не обратил на него внимания.
— Гляди ты, как все измял. Не лицо, а кисель получился. А вот в этом месте размылил.
Я нехотя взглянул через плечо. Позади меня стоял Гулюшкин, мальчик лет девятнадцати, белобрысый, словно его долго вымачивали в щелоке, с нежным до голубизны бледным лицом, с большими серыми ушами, которые обычно вспыхивали, когда он начинал волноваться. Он мне подсказывает, он меня упрекает, — он, который выводит на своих холстах какую-то зеленую муть!.. Да в нем ли дело? Сколько мне еще придется выслушивать от других таких вот правильных, наперед мне известных и совсем ненужных советов! Сегодня, завтра, послезавтра — без конца. А к чему?..
Верно, я странным взглядом поглядел на Гулюшкина, у него медленно налились кровью серые уши, вымоченные ресницы на голубых, как у недавно прозревшего котенка, глазах растерянно захлопали.
Я спокойно положил грязные кисти в этюдник, осторожно отодвинул плечом озадаченного Гулюшкина и вышел не торопясь из аудитории.
Прежде чем разыскать декана, я спустился вниз, отмыл от краски руки. Мыл их долго, задумчиво, словно тщательно уничтожал следы ненавистной работы, следы своего печального заблуждения.
Ни в деканате, ни в канцелярии не уговаривали меня. Мой уход был оформлен буднично: написали справки, пришлепнули печати, заставили расписаться в каких-то книгах за полученные документы.
Жаль, не простился с ребятами, с кем бок о бок работал больше двух месяцев. Я просто забрал свой этюдник и вышел. Для того чтоб проститься, пришлось бы объяснять — почему, что за причины.
Уже несколько раз выпадал снег и таял, оголяя мокрый асфальт. В этот день он лег, кажется, намертво.
Сложный город, нагромождение этажей, крыш, глухих кирпичных стен, стал неожиданно ясен и прост: белые крыши, черные стены, белая площадь и мостовые и черные фигурки людей на них. Черное и белое, белое и черное — никакой путаницы в цветах. Небо тоже под цвет снега белесое.
Простота города покойна и празднична, она очень нравится мне. Я не углубляюсь и не хочу углубляться в оттенки — хватит с меня и тех обычных цветов, которые видит любой прохожий. Я перестал быть художником, я стал таким, как все.
Площадь Курского вокзала. С нее я окидываю прощальным взглядом город, на который недавно глядел как на величественный мир моего будущего. Прощай, быть может, я еще встречусь с тобой другим человеком, с иными надеждами, с новыми планами. Билет уже в кармане, пора присоединяться к извечному, суетливому, жаждущему движения, ненавидящему неподвижность вокзальному племени.
Сейчас, наверное, еще вспоминают меня в институте. Бросая из-за мольбертов взгляды на неподвижного старика с жилистой шеей, обсуждают мой неожиданный и непонятный для всех уход. Но пройдет день, другой — и забудут. Был-де такой парень, ходил в штанах, обшитых кожей… Скорей вспомнят мои штаны, чем меня. Неглубокую же борозду оставил я в памяти своих товарищей!
Провожал меня один Юрий Стремянник Он не пошел на лекции. Не в пример другим, ему понятна моя беда. Сейчас, пританцовывая на снегу своими стоптанными офицерскими сапожками, старается утешить, говорит с нарочитой бодростью:
— Не вешать нос, Андрюшка. Я, брат, в тебя верю. Найдешь свое место. Это слабодушных белый свет пугает, вцепятся во что-нибудь одно, хоть с души прет, а сидят клещом всю жизнь. Ты оторвал себя, а ведь и на эта нужна смелость.
Он-то верил, но у меня самого в эту минуту веры не было. Куда мне теперь идти? Что ждет меня впереди? Билет взял до ближайшей к Густому Бору станции…
— Идем. Скоро начнется посадка, — сказал я, поднимая свой чемодан.
Около вагонов, как и нужно было ожидать, толкучка. У нас обоих были крепкие плечи и фронтовые понятия о порядочности: отстаивай свое право силой.
Перебрасывая чемодан через головы людей, скучившихся у дверей вагона, мы в числе первых ворвались в вагон и заняли багажную полку, под самым потолком — лежачее место всех бесплацкартных.
Обнялись, расцеловались, потом долго стояли у окна: я в вагоне, приплясывающий Юрий на платформе, присыпанной снегом.
Поезд тронулся. Юрий Стремянник в шинели, в шапке-ушанке, махая перчаткой, с застывшей несмелой улыбкой на красном от мороза лице шагов десять пробежал рядом, отстал и исчез. Счастливец, который будет по-прежнему пробивать дорогу к своему завидному будущему!
17На багажной полке я отоспался за те ночи, от которых я отрывал часы для подвигов во славу изобразительного искусства.
Я спустился со своего трехъярусного Олимпа в гущу мешков, чемоданов и уставших людей. Паренек деревенского вида, в вылинявшей телогрейке охотно согласился занять освободившуюся после меня полку.
Я уселся напротив сухонького интеллигентного человека в высокой шапке и в пальто нараспашку. Выражение его худощавого лица не вызывало желания завести беседу. Но долог путь. Общение начинается с незначащих вопросов: «Что за станция? Сколько минут стоит? Жарковато в вагоне… Вам бы лучше снять пальто…» И в конце концов неизбежное: «Куда едете?»
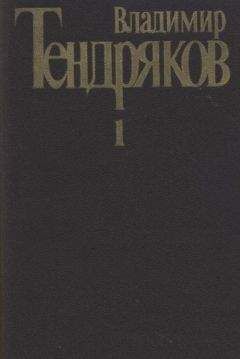

![Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/134063/134063.jpg)