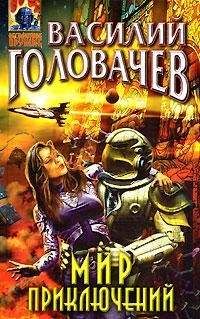Юрий Федоров - За волной - край света
— Зверь войны рано или поздно, но обязательно сожрет того, кто разбудил его, — сказал старик, — так случилось и с племенем Орла. Другое племя сожгло их вигвамы, перебило воинов, забрало женщин и детей.
Раб спасся, бросившись в море и затаившись среди камней. Ночь победители жгли костры и плясали вокруг огня. Утром они ушли. От стойбища остался лишь пепел. Раб подобрал брошенный кем–то лук со стрелами и пошел за солнцем.
Бочаров подбросил в очаг смолья, чтобы лучше видеть рассказчика.
— Почему за солнцем? — спросил капитан.
В глазах старика проснулся живой огонек.
— Как–то один из племени Орла сказал, — ответил он Бочарову, — что меня привели оттуда, где садится солнце. Я запомнил его слова.
Раб шел день за днем, убивал птицу или зверя, когда был голоден, спал в яме или под поваленным деревом и шел дальше.
Бочаров знал способность индейцев запоминать свою тропу, даже и в том случае, когда она проложена и по совершенно незнакомой местности, и дотошно расспрашивал старика. Тот отвечал с терпеливостью, которую дают годы.
Старый человек рассказал, что он шел долиной большой реки, но потом путь преградили горы, вершины которых были покрыты снегом в жаркое лето. Когда полетели первые снежные мухи, он пристал к племени охотников и зиму прожил среди них. Люди племени знали о море, от которого он ушел, но ничего не слышали о другом море, что томительно звало раба и являлось ему во снах.
— Они качали головами, — рассказывал старик, — когда я расспрашивал их о родном береге, и сомневались, что там, где заходит солнце, лежит второе море. Даже самые старые, ходившие на много лун в сторону садящегося солнца, говорили, что там только горы и горы, которые не перейти… Можно было остаться у охотников и взять к себе в вигвам девушку из их племени, но желание увидеть землю отцов с первым теплом повело его дальше.
Старик рассказал, как он шел через горы, выискивал распадки, шел теснинами, преодолевал реки, но не сворачивал с заветного пути. Солнце, только солнце было его путеводным знаком.
На третье лето раб вышел к морю. И тогда его стали называть Человеком, Который Видел Два Моря.
— А зверя морского, — сказал старик, — в тех землях, откуда восходит солнце, великое множество.
В Павловскую крепостцу Бочаров привез карту Чугацкого залива и записанный рассказ старого индейца о втором море, к которому можно пройти посуху, двигаясь строго на запад.
— Может, попробовать пройти к этому морю? — спросил Баранов. — Потап Зайков рассказывал, что наши хотели пробиться на западное побережье материка Америки морем, но не прошли. Льды помешали. А посуху–то, пожалуй, пройдем. А? — И посмотрел вопросительно на капитана Бочарова.
Тогда же Баранов отписал Григорию Ивановичу о тропе старого человека.
* * *Пуртов отбил мужиков у индейцев. И Шкляева, и Тарханова. И Шкляев на реке, где выследили и пленили их индейцы, набрал–таки глины для печи. Еще и настоял, чтобы другие взяли по корзине.
— Нам с Тархановым, — сказал, — не дотащить, сколь для печи надобно.
Злой был и, когда один из пуртовских мужиков возразил: «Какая глина? Окстись, парень», — так глянул на него, так ощерился, что мужик молча подхватил корзину. Отступил в сторону, буркнул:
— Ишь, волчок!
Пуртов на то крякнул:
— Ну, мужик!
Однако корзину на плечо поставил. Такие, как Шкляев, были ему по душе. Подкинул корзину, устраивая поудобнее, и повторил:
— Мужик…
Печь сложили.
Иван шибко волновался. Обстукал каждый кирпич: нет ли где трещины или раковины? Но печь под ударами отдавала ровными, гулкими звуками. Накопали руды, нарубили угля. Все было готово к плавке. Ватага собралась у печи. В зеве топки, еще нетронутой сажей, но, напротив, белевшей обмазанными глиной краями, видна была поленница дров, сложенная с тщанием. То Иван колдовал. Поверху дров чернел уголь, и тоже сложенный со старанием. Шкляев к этому даже Тарханова не подпустил. Все сам, лицо у него за последние дни обтянуло. Глаза горели лихорадочным блеском. Так болел душой за печь. И все подтягивал и подтягивал потуже веревочку на армяке. Руки сами хватались за обтерханные концы. Волновался — одно и скажешь.
Подожгли насквозь налитое янтарной смолой корневище сосны — смолюшку. Она сразу взялась жарким пламенем, затрещала, разбрасывая горящие брызги. Лица оборотились к Александру Андреевичу. Он помедлил мгновение, затем решительно протянул смолюшку Ивану. У Шкляева губы заплясали.
— Ты сердцем за это дело болел, — сказал Баранов, — каждому бы от боли этой благословенной, как от искры зажечься. Запаливай! Твое право!
Иван взял смолюшку, сказал, преодолев горловой спазм:
— Этого не забуду. Сколь жить придется…
Не договорил, шагнул к печи, сунул факел в дрова. И пока разгоралось пламя, не оборачивался к стоящему за спиной люду. И, только вспомнив слова Шелихова: «Как устроите жизнь на новых землях, так и жить будете», повернулся. Все стоящие вкруг заулыбались — такое счастливое было у Ивана лицо.
А он забеспокоился, засуетился.
— Идите, — сказал, — мужики, своим занимайтесь. Она еще заговорит, — кивнул на печь, — заворчит, как горшок с варевом у бабы на загнетке. Время надо. Я позову, всех позову!
И опять веревочку на армяке потуже затянул. Плечи у него поднялись.
— Заговорит, милая! — крикнул, не в силах удержать радость. — Заговорит!
Заходил вкруг печи, как парень вкруг сладкой девки. И все что–то подлаживал в жарко пылавшей топке, подбрасывал дровец и уголька, хотя пламя гудело и бушевало вовсю.
Мужики разошлись по крепостце. Из трубы повалил черный дым.
Иван сел на чурочку подле печи, сложил беспокойно руки на коленях. Дмитрий Тарханов стоял тут же.
— Ну что, доволен? — спросил.
— А как же? — встрепенулся Иван. — Честь–то какая нам. Где такое видано? Нет, вправду заживем мы тут по–новому. — Покачал головой. — А я сомневался. Сильно сомневался.
— Да, — удовлетворенно закивал Тарханов, — Александр Андреевич, управитель–то, молодца.
— Куда там, — подхватил Иван, — смолюшку мне отдал. И тут же повернулся к печи: — Но ты уж нас не подведи, родная, — не то взмолился, не то погрозил, — не подведи!.. — Встал, погладил печь по теплому, живому боку. Оборотился к Тарханову: — Еще уголька подбросим. Пламя должно белым держать
Мужики взялись за лопаты.
Дым из печи прибивало к земле. Иван жадно потянул ноздрями.
— Хорош, — сказал, — куда как хорош.
Вдохнул дым в другой раз.
И, как и сказал Иван, печь, заговорила. Вначале вроде бы нечто тяжелое и грузное повернулось в ней, укладываясь поудобнее, вздохнуло, повременило маленько и пошло, пошло неторопливыми шагами.
— А? — насторожился Иван. — Слышишь?
Мужики прильнули к печи.
За кирпичами вздохнуло и опять послышался звук неторопливых шагов. Словно кто–то зашагал неуверенно, шатко, но чувствовалось, с каждым разом нога становилась тверже, дыхание доносилось четче, и вот уже некто за раскаленным боком печи вроде бы присвистнул, крепко утвердившись на ногах, и пошел, пошел вкруговую за надежно выложенной стеной. Загулял, зашевелился, зажил.
— Давай, давай, родная! — взмолился Иван. — Шевелись, шевелись, ходи веселей!
А живой за кирпичами набирал и набирал силу и уже не шагал, переступая с ноги на ногу, но катился за жаркими стенами быстрым катком, стучался в пазы, ворчал отдаленным громом, ухал молодецки.
Металл выпускали из печи, вновь собравшись крепостцой. А когда из летка ударила тугая белая струя, Баранов отступил от плеснувшего в лицо жара, крикнул:
— Ура!
Иван стоял молча, мял в руках шапчонку, радость переполняла его.
В то же лето Александр Андреевич писал Шелихову на Большую землю: «Металл получен отменный. И еще одной новостью тороплюсь поделиться. В Воскресенской гавани спущено нами на воду трехмачтовое судно. Названо «Феникс». Длина оного 73 фута». А того не написал, что сам сварил особый состав для обмазки нового корабля из китового жира, охры, еловой серы и что обмазка та не только надежно оберегала судно от гниения, но и значительно прибавила ему в скорости. Однако указал и выделил особо: «Металл выплавлен мастером Иваном Шкляевым, проявившим тщание в поиске руды, угля и другого нужного к тому делу, а также горной науки унтер–офицером Дмитрием Тархановым». Тут же было сказано: «Судно построено вельми знающим мастером Яковом Шильдсом».
И еще сообщалось Григорию Ивановичу, что «выплавлена добрая медь и из оной отлит колокол для церкви Трехсвятительской гавани. Голосом колокол звонок, что свидетельствует о достоинствах меди и мастеров ее добывших».
Письмо заканчивалось словами: «Егор Пуртов все еще в плаванье».
* * *Лодьи качало, переваливало с борта на борт, захлестывало через планшир волной. Егор, привалившись к мачте спиной, силился не забыться и не закрыть глаз. Его трепала злая местная болезнь, изнурявшая человека то нестерпимым жаром, то странной непреодолимой сонливостью и ознобом. Егору мучительно хотелось уткнуться лицом в борт и уснуть. Хотя бы на минуту. Одну минуту, а тогда он поднимется и сутки, и двое будет вести лодьи. Но Пуртов знал, что это не так. После минутного сна не хватит сил ни на сутки, ни на полсуток, ни даже на час. Если только разрешишь себе — сонливость свалит на много часов. Но и долгий сон не даст выздоровления. Напротив — человек после тупой забывчивости вовсе ослабнет. Он такого позволить себе не мог и не закрывал глаз.