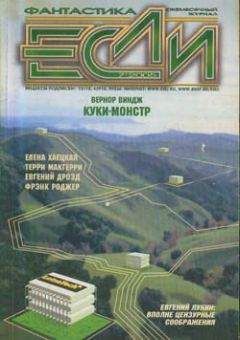Стремнина - Бубеннов Михаил Семенович
— Это подло! Подло!
Только на другой день Борис добрался домой. У матери опять был дорогой гость, его отец, даже фамилию которого он не знал. Борис постучал в дверь, а потом, не переступая порога, выкрикнул ему в лицо:
— Я никогда… Слышите, я никогда не буду таким отцом, как вы! И таким подлецом!
Быстро собрав свои вещи, Борис ушел из дома. Теперь он твердо знал, что нельзя верить даже матери. Он презирал мать и родной дом, казалось насквозь пропитанный ложью и облитый грязью.
С той поры для Бориса все яркое в мире поблекло, выцвело, затянулось хмарью. Он невольно, но с убежденностью, свойственной юношеским натурам, стал думать, что из таких людей, как его родители, и состоит большая часть человечества, а Белявские на свете редки, очень редки, как самородки в речном песке.
Вскоре по всей стране вдруг с болезненной возбужденностью заговорили о том годе, когда он появился на свет. Это и совсем привело Бориса в замешательство. Поднятый шум, казалось, полностью подтверждал его мрачнейшие выводы о человечестве. И тогда раздумья о жизни для его незрелого да еще взбудораженного ума стали подлинной мукой.
Студенчество столицы гомонило той памятной весной, как стая грачей, начинающая вить гнезда. Московские друзья Бориса смело высказывали далеко идущие прогнозы о будущем. Они утверждали, что от прошлого нельзя оставлять камня на камне. Все надо начинать сначала, говорили они, будто революция только что свершилась. Для Бориса это оказалось сладкой отравой…
В мае за непосещение лекций его отчислили из университета. Помня о своей клятве никогда не переступать порог родного дома, он завербовался и отправился в Сибирь.
За пять лет скитаний тот нравственный заряд, какой Борис получил в Москве от своих друзей, возбуждавших у молодежи дух бездумного всеотрицания и бунтарства, значительно ослаб. А в тайге редко встречались такие люди, какими, к несчастью Бориса, оказались его столичные друзья. И потому, может быть, все менее шумными становились его успехи у молодежи, когда он пытался высказывать, по существу, позаимствованные у них мысли. В любом новом месте первое время он всем нравился. Его слушали, раскрыв глаза, восторгались его смелым взглядом на жизнь, его порывами, его гражданской страстью. Но проходило совсем немного времени, и почти все от него отворачивались. Около него, на удивление, оставался лишь всякий темный сброд. Белявский уже страдал от одиночества. Он нуждался в поддержке хотя бы одного-единственного, но верного человека.
Узнав о беременности Гели, Борис решил, что ему представился наилучший случай возобновить с нею мир да любовь. В этом было его спасение, и оно показалось близким, очень близким…
И тогда же вспомнилось все, что произошло пять лет назад. Вспомнилось со свежей болью, и Борис, искусав губы, поклялся перед собой заслужить право носить фамилию Михаила Петровича Белявского.
В нем всегда жило сильнейшее сыновнее чувство, вызванное, как оказалось, чужим человеком, и теперь из него неожиданно, но совершенно естественно возникло чувство отцовства. И оттого-то за несколько дней после встречи с Гелей с Борисом произошли большие перемены. У него вдруг исчезло то напряжение, с каким он жил последнее время, напряжение, свойственное туго натянутой струне, которую нельзя задеть без риска, что она не лопнет. Исчезла беспричинная раздражительность, взрывчатость, с какой взлетает огонь над костром из сухого хвойного валежника. Весь он внутренне обмяк, подобрел, — с ним вроде бы произошло то, что происходит с дозревающим в лёжке яблоком. Умиротворение разлилось по всем жилам, как легкое, почти не пьянящее вино. Наступило удивительное состояние, памятное лишь по дням детства, и Борис впервые понял, как ему трудно и нехорошо жилось в последние годы. Так и казалось, что он возвращается в раннее, полузабытое детство, и не просто возвращается, а открывает в нем после долгой разлуки много такого, чего не заметил в свое время его рассеянный детский взор.
И не хотелось, а он стал часто вспоминать родной дом и комнатушку в нем, где жил с бабушкой. Но очень часто вместо себя он видел маленьким уже своего сына. Он видел, как черноглазый мальчонка, простирая к нему руки, делает первый шаг по земле, как он барахтается на лужайке у дома, а то и пытается побороть отца, как он карабкается на дерево или ревет, боясь впервые ступить в реку…
И тогда же Борис понял: надо растить детей — вот главная задача человека на земле, надо жить для них…
Совсем в другом свете засияла теперь перед ним и Геля — мать его будущего сына. Он всегда тяжко, с болью нуждался в ней, не совсем понимая, отчего у него такая острая нужда. Теперь же, узнав, что она должна стать матерью его сына, он и вовсе не мог представить существования без нее. Он всегда считал, что любит Гелю такой, какая она есть, а теперь он любил ее прежде всего за то, что она готовилась стать матерью.
Он считал, что Геля, пусть вгорячах и отхлестала его по щекам, теперь уже одумалась и, конечно, ждет его, своего мужа. Мало ли что было между ними! Теперь надо думать не о прошлых обидах, а об их ребенке. Для Гели теперь не могло быть никого, кроме него, Бориса Белявского. Если и в самом деле возникло у нее какое-то чувство к Морошке, то оно потухнет теперь, как свеча от ветра. Еще не родившись, думалось Борису, ребенок вмешался в судьбу своих родителей, связал их незримой, но кровной нитью. Он призывал их к мировой. Чуткое ухо Гели не могло не слышать его голоса.
Он решил было раздеться и уснуть, раз не осталось никаких надежд повстречаться с Гелей, но в дверь постучали, и по стуку он определил, что пришел Мерцалов, которого он совсем не ожидал. «Все-таки пришел», — подумалось ему тоскливо.
— Не зажигай, — сказал Мерцалов, переступая порог.
— Ну, что тебе? — откровенно неприветливо спросил Белявский.
— Запасные свечи у тебя есть?
— Где-то были.
— Выручай! — не попросил, а потребовал Мерцалов. — Вытащили эти гады.
— Куда же вы собрались? — спросил Белявский.
— Прррокатиться по Ангаре. Тоска заела.
— Так вы, может, далеко махнете?
— Смотря по настроению.
— Взяли бы законно расчет.
— Не то. Неинтересно. Деньги мы и так получили.
— А документы?
— Это не проблема.
— Но вас поймают и засудят.
— А пусть ловят! Пусть судят!
— Какая-то загадка…
— Да, недогадлив ты… — от всей души пожалел Мерцалов Белявского и присел на его кровать. — Ну, что нам дадут за угон лодки? Зиму отсидим в тепле, отдохнем на хороших даровых харчах, поглядим кинокартины, а весной выйдем на подножный корм. Плохо ли? Какое это лишение свободы? Сейчас, знаешь ли, гуманизм. Жить можно. Только вот с путевками на курорт плохо. Не дают. Приходится самим организовывать свой отдых. А работать зимой, на здешнем морозе, не очень-то заманчиво. На нем и железо не выдерживает.
Мерцалов даже посмеялся над недогадливым мотористом:
— Соображать надо!
— Вам-то, может, и есть выгода, а мне? — тоскливо возразил Белявский. — Мне-то ведь нет никакого расчета сидеть с вами за решеткой, хотя бы и до весны.
— Пррравильно, — согласился Мерцалов. — А ты не всегда живи по расчетам. Живи на полное дыхание, с музыкой! Одна прелесть!
— Прораб сразу догадается, где вы взяли свечи.
— Еще бы! Он догадлив, как черт!
— Ну, и меня посадят.
— Струсил, да? Струсил?
— У меня свои расчеты.
— Все думаешь о семейной жизни? — Зажав рот ладонью, Мерцалов глуховато загоготал в темноте. — Тебе что, мало их на свете? Бери, навалом! Этой дряни…
— Замолчи! — прикрикнул Белявский, да так, что у него перехватило горло. — Замолчи, а то в морду дам!
Надо было выгнать Мерцалова, и дело с концом, а у Белявского, как назло, не хватило какой-то одной-единственной искорки возмущения, чтобы сделать это, и он даже скрежетнул зубами от сознания своей беспомощности.
— Ладно, не рычи. — Мерцалов нащупал в темноте плечо Белявского. — Слушай меня. Когда-то мы тебя выручили, теперь ты нас. Законно? Свечи остались в каюте, когда тебя отправили в больницу, а куда они тут задевались — тебе неизвестно.